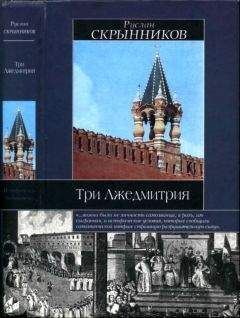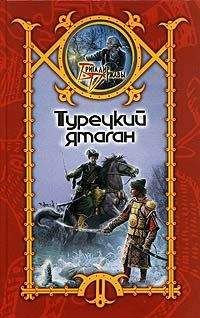Мария Башкирцева - Дневник
– Да, мой прадедушка и его две сестры – графиня Т. и баронесса С.
– Как бы то ни было – ясно, что вы чахоточная. Признаюсь, я немного пошатываясь вышла от этого доктора, который интересуется такой оригинальной больной.
Пусть мне дадут хотя бы не более десяти лет, но в эти десять лет – славу и любовь, и я умру в тридцать лет довольная. Если бы было с кем, я заключила бы условие: умереть в тридцать лет, но только пожив.
Чахоточная – слово сказано, и это правда. Я поставлю какие угодно мушки, но я хочу писать.
Можно будет прикрывать пятно, убирая лиф цветами, кружевом, тюлем и другими прелестными вещами, к которым часто прибегают, вовсе не нуждаясь в них. Это будет даже очень мило. О, я утешена. Всю жизнь нельзя ставить себе мушки. Через год, много через два года лечения я буду как все, буду молода, буду…
Я говорила же вам, что должна умереть. Бог, не будучи в силах дать мне то, что сделало бы мою жизнь сносною, убивает меня. Измучив меня страданиями. Он убивает меня. Я ведь говорила вам, что скоро умру, это не могло так продолжаться; не могла долго продолжаться эта жажда, эти грандиозные стремления. Я говорила же вам это еще давно в Ницце, много лет тому назад, когда я смутно предвидела то, чего мне нужно было для жизни. Однако меня занимает положение осужденной или почти осужденной. В этом положении заключается волнение, я заключаю в себе тайну, смерть коснулась меня своей рукою; в этом есть своего рода прелесть, и прежде всего это ново.
Говорить серьезно о моей смерти – очень интересно, и, повторяю, это меня занимает. Очень жаль, что неудобно, чтобы об этом знал кто-нибудь, кроме Жулиана, моего духовного отца.
1883 год
Понедельник, 1 января. Гамбетта, заболевший или раненый несколько дней тому назад, только что умер.
Я не могу выразить странного впечатления, произведенного на меня его смертью. Не верится как-то. Этот человек играл такую роль в жизни всей страны, что нельзя себе ничего представить без него. Победы, поражения, карикатуры, обвинения, похвалы, шутки – все это поддерживалось только им. Газеты говорят о его падении – он никогда не падал! Его министерство! Да разве можно судить о министерстве, длившемся шесть недель.
Умер несмотря на семь докторов, все заботы о нем, все усилия спасти его! К чему же после этого заботиться о здоровье, мучиться, страдать! Смерть ужасает меня теперь так, как будто бы она стояла перед моими глазами.
Да, мне кажется, что это должно случиться… скоро. О, до какой степени чувствуешь свое ничтожество! И к чему все? Зачем?.. Должно быть что-нибудь кроме этого; скоропреходящей жизни недостаточно, она слишком ничтожна сравнительно с нашими мыслями и стремлениями. Есть что-нибудь кроме нее – без этого сама жизнь непонятна и идея Бога нелепа.
Будущая жизнь… бывают минуты, когда как-то смутно провидишь ее, не умея понять и ощущая только ужас.
Среда, 3 января. Чтение журналов, наполненных Гамбеттою, сжимает мне голову железным кольцом, эти патриотические тирады, эти звучные слова: патриот, великий гражданин, народный траур! Я не могу работать; я пробовала, хотела заставить себя, и благодаря этому напускному хладнокровию первых часов я сделала непоправимую ошибку, о которой буду вечно сожалеть: осталась в Париже, вместо того, чтобы отправиться в Вилль-д'Авре немедленно по получении известия осмотреть комнату и даже сделать наброски…
Четверг, 4 января. Гроб был перевезен в Париж и встречен президентом палаты. «Благодарю вас за то, что вы озаботились его перевозкой»,- говорит он Спюллеру, заливаясь слезами… И я плачу! Суровый, простой, сдержанный Бриссон в слезах! И он не был его другом!- «Благодарю – вас, что вы озаботились его перевозкой»… В этом звучит истинное чувство, не оставляющее места никакому актерству.
Мы не могли войти туда, прождав в очереди в течение двух часов. Толпа вела себя довольно почтительно, если принять в соображение французский характер, давку, толкотню, обязательные в таких случаях разговоры, потребность подвергнуть все случившееся обсуждению, разные смешные случаи, неизбежные в такой сутолоке.
Когда кто-нибудь начинал громко смеяться, находились люди, водворявшие тишину: «Это непристойно! Уважьте его память!» – раздавалось в толпе… Повсюду продавались портреты, медали, иллюстрированные журналы: «Жизнь и смерть Гамбетты!». Сердце сжимается от этого грубого заявления о случившемся, от этой громкогласности, совершенно естественной, конечно, но казавшейся мне каким-то святотатством.
Суббота, б января. Мы отправляемся смотреть погребальную процессию из окон Мариновича на улицу Риволи. Трудно было бы устроиться лучше. В два часа пушка возвещает о поднятии тела; мы становимся к окнам.
Колесница, предшествуемая военными горнистами на лошадях, музыкантами, играющими траурный марш, и тремя огромными повозками, переполненными венками, возбуждала чувство какого-то изумления. Сквозь слезы, вызванные этим грандиозным зрелищем, я различила братьев Бастьен-Лепажей, идущих почти около самой колесницы, сделанной по их проекту; архитектор, которому брат, не нуждающийся в отличиях для увеличения своей знаменитости, великодушно уступил первенство, шел, неся шнур от покрова. Колесница низкая, как бы придавленная печалью; покров, из черного бархата, переброшен поперек нее вместе с несколькими венками; креп; гроб, обернутый знаменами. Мне кажется, что можно было бы пожелать для колесницы больше величественности. Может быть, впрочем, это оттого, что я привыкла к пышности наших церковных обрядов. Но вообще они были совершенно правы, оставив в стороне обычный фасон погребальных дрог и воспроизводя нечто вроде античной колесницы, вызывающей в воображении мысль о перевозе тела Гектора в Трою.
После того, как проехали три повозки с цветами и пронесены были многочисленные гигантские венки, можно было подумать, что это все, но эти три повозки совершенно теряются в бесконечном шествии, потому что никогда еще, по словам всех, не видано было такой процессии из цветов, траурных знамен и венков.
Признаюсь без всякого стыда, что я была просто поражена всем этим великолепием. Это зрелище трогает, волнует, возбуждает – не хватает слов, чтобы выразить чувство, непрерывно возрастающее. Как, еще? Да, еще, еще и еще – эти венки всевозможных величин, всех цветов, невиданные, огромные, баснословные, хоругви и ленты с патриотическими надписями, золотая бахрома, блестящая сквозь креп. Эти груды цветов – роз, фиалок и иммортелей, и потом снова отряд музыкантов, играющих в несколько ускоренном темпе погребальный марш, грустными нотами замирающий в отдалении, потом шум бесчисленных шагов по песку улицы, который можно сравнить с шумом дождя… И еще, и еще проходят делегации, несущие венки, разные общества, корпорации. Париж, Франция, Европа, промышленность, искусство, школы – весь цвет культуры и интеллигенции.