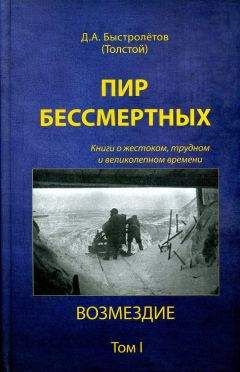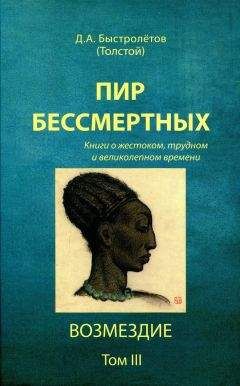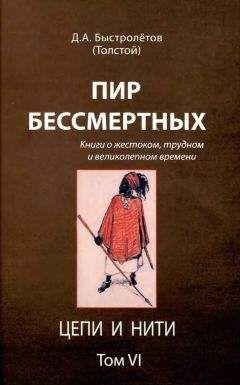Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2
— Пока нет.
— Немецки шеловек любит философия. Он смотрит на все сверху — оттуда лютше видеть.
— И что же радостного вы увидели в нашей жизни, либер Вольфгант — дер филозофер?
— Я много поняль существо русски шизнь, существо русски история!
Вольф сел. Чечетка, лежавший у стенки, как труп, зашевелился и в ожидании поднял голову.
— Русски история, доктор, всегда ходиль по большой круг длиной триста лет. Когда ходиль перви круг, тогда жизнь улютшался так, што второй круг биль више первый. Триста лет жизнь опять улютшалься, и третий круг сейшась идет и все улютшается. Нови шетвертый круг будет совсем хорошо. Я улибалься потому, что увидель, как все будет хорошо: Россия будет сшастливой!
— Гм, — с сомнением промычал Николай.
— Объясните, Вольф, конкретнее, — сказал я. — На примерах покажите, что это за круги и почему нам станет лучше.
Вольф довольно рассмеялся.
— Перви круг — татарски. Триста лет слаби русски князи улютшалься и соединялься. Татары увидель русски сила и убешаль. Татаризм даль шизнь царизм, а сам умираль — хан Мамай родильхан Николай. Россия пошоль по второй круг, и шизнь ошень-ошень улютшалься — обстоятельства при Дмитрии Донской биль много хуше, шем при царь Николай. Шерез триста лет царизм тоже умираль и даль шизнь большевизм. Хан Николай родиль хан Сталин. И опять русски жизнь много улютшалься, правда? Но время идет, и вот уже тридцать лет, слафа Богу, нет. Хан Сталин, сын хана Николай и внук хана Мамая, — старый. Он скоро умрет — и опять улютшение! Мош-но улыбаться, доктор? Ведь это так просто: нам оставалься только двести семьдесят лет! Это — пфук! И потом Россия будет свободной!
— Долго ждать, — пробурчал Булыгин. — Через месяц-два война кончится, и объявят амнистию. Мне нужна свобода в этом году, я сыт татаризмом и нашим ханом.
— Я говорю стошки зрения философия, Николай. Для русски история двести семьдесят лет — пфук.
Чечетка вдруг заплакал.
— А мне и два месяца пфук! Меня этой ночью вытащат за руки и за ноги и заколют! Я не хочу умирать! Я жить хочу! Жить!
— Тише ты! — остановил его Николай. — Криком делу не поможешь.
Чечетка тихонько завыл в рукав.
— История выше шеловеки! — упрямо и торжественно провозгласил Вольф. — Ты, Шешотка, — пфук, и вы, Николай, — пфук! Татаризм, царизм, большевизм — все улютшается, штобы умирать. Они — тоже пфук!
— А что же остается, наш милый Вольфганг Шпенглер, немножко поэт и немножко философ?
— Россия и свобода!
Чечетка вдруг перестал выть и решительно поднял голову.
— Я хочу покончить с собой! Доктор, дайте мне яду!
— Яды в БУР не носят, — сонно ответил я. От всех событий сегодняшнего дня я устал и вдруг захотелось спать. — Но у меня большая банка закрепляющего. Выпей все таблетки, и мы обещаем не оказывать тебе помощи. Тогда ты умрешь.
— Когда?
— Дней через десять.
— Не пойдет. Мине надо сейчас. Я спешу.
Нахаленок сказал сочувственно:
— Не мучайся, Чечетка! Выскочи из барака и схватись за ограду! Хлоп — и все! С вышки не промахнутся. Чего же в самом деле так переживать и расстраиваться!
— Ага, хлоп и все! А ты знаешь, как это больно? Добряга какой нашелся! Я боюсь крови. Мне надо, чтобы без крови!
— Тогда попроси Юрок, штоб он тебя шлепнуль доской по затилок! В БУР всегда так урки убивать мальшишки, если хотель идти на следствие из БУРа, — вмешался Вольф.
Чечетка вдруг уронил лицо в тряпье и зарыдал.
— Не могу… Не могу… Я жить хочу! Жить!
Я задремал не более чем минут на пять. Проснулся от того, что кто-то резко дернул меня за плечо. Николая и Нахаленка уже не было. Снаружи слышались громкие деловые голоса.
— Вставайте! Фрау Анне пришоль! — тихо повторял Вольф мне на ухо.
Я не особенно взволновался, ведь я ждал ее возвращения с работы и разговора через проволоку. Но едва вышел в секцию как обомлел — на пяти просаленных одеялах Рябого сидела Анечка и тараторила:
— Вот, товарищ пахан, получите ксиву от Верки-Гроба! И с пачкой махры в придачу! А это коробок спичек лично от меня в честь приятного знакомства! Тут бумага для закруток, Верка обещает прислать еще через неделю. И, вообще говоря, товарищ пахан, вы можете считать свое снабжение организованным: я еще понаведаюсь к вам не раз! Если захотите черкнуть кому-нибудь ксиву — пишите, вот я прихватила кусочки бумаги и карандаш. Пишите, а я пойду к врачу, у меня к нему тоже дело! Я ухожу с ремонтной бригадой.
Я качнулся назад и рукой взялся за нары, потому что мне в лицо ударило страшное видение.
В Норильске урки вызвали в БУР врача для оказания срочной помощи. Пошла П-ва, маленькая женщина лет тридцати пяти, поверх рыжей меховой шубки она накинула через плечо ремень сумки и, беззаботно напевая, отправилась из амбулатории. Стоял тихий день, было очень холодно и темно.
Урки заперли за вошедшей дверь и насколько раз пропустили ее под трамвай, то есть по очереди изнасиловали, опрокинув на спину у самой двери. Их было человек сорок. Несколько сильных грязных рук зажимало ей рот и надзиратель у ворот ничего не слышал. Он спохватился только через час. Дверь урки не открыли; а когда самоохранники выломали ее, то каждый входящий встречался градом кирпичей из разобранной печи. Пашка Гурин, комендант из посученных бандитов, отбил тело задушенной женщины, только проткнув ломом первого подвернувшегося урку: вид товарища, обвисшего на железном стержне, образумил остальных.
На грязном снегу тело лежало вытянув руки и ноги; рыжий мех был взлохмачен и кое-где измазан глиной и кровью. Доктором П-ва была тогда похожа на кошку, раздавленную колесами грузовика.
А на следующий день урок отправляли на штрафной лагпункт в Колларгон — там их ожидала смерть. Стоя на грузовиках, они срывали с себя платье и стояли на жестоком морозе голыми — тощие, зеленые, покрытые снегом. Но конвой безжалостно подобрал брошенные вещи и бросил их обратно в кузова, и грузовики исчезли в темноте и тучах морозной белой пыли.
«Что это? — думал я. — Возмездие? Наказание? Мера внушения? Чепуха… Чтобы это ни было, хороший культурный человек погиб, и его смерть не может быть ни искуплена, ни отомщена смертью других: изнасилование с убийством — это преступление без наказания…»
Я провел по лицу рукой. Анечка в БУРе…
Стараясь подавить дрожь, взял ее под руку и повел наверх.
За выходной дверью мы натолкнулись на прижавшегося к стене Вольфа. Он был бледен, как мел. На лице искрились капельки пота. В руках он сжимал топор.
— Я украл у ремонтники топор… Если бы урки нашаль насиловать фрау Анне… Я бы успель пять шеловек убивать раньше, шем они меня убивать…