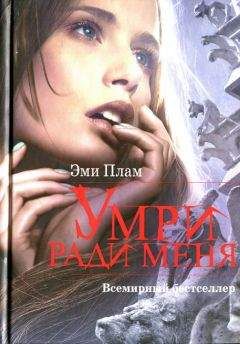Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
К началу войны Евгений Петрович одряхлел, почти уже не мог ходить и по целым дням сидел у себя в Полтаве в удобном кирпичном особняке, построенном в украинском стиле, окруженном тенистым полтавским садом, в вольтеровском кресле, с ногами, закутанными фланелью, и перелистывал старые комплекты французского журнала «Ревю де Дю Монд» или занимался своими марками, и я слышал, что он был великий филателист и владел бесценными коллекциями, из которых одна была единственной на весь мир — коллекция полтавской уездной земской почты.
Тетя стала вести его хозяйство.
Так кончилась жизнь тети у нас в доме.
…тетя умерла в Полтаве в 1942 году при немцах, незадолго до этого похоронив Евгения Петровича и оставшись совсем одна, больная, старая, нищая, переселенная в какой-то полуразрушенный флигелек. Будучи русской патриоткой, она не могла перенести унижения иноземного нашествия на родную землю, на ту землю, где некогда Петр разбил шведов…
Соседи нашли ее однажды утром мертвой рядом со своей постелью на полу. По-видимому, она полезла под кровать за туфлями, и тут ангел смерти вынул ее нежную, добрую и такую несчастливую душу.
О, как ясно вижу я зимнее темное полтавское утро, хлопанье зениток, шум немецких танков на улице, тучи над развалинами некогда прекрасного украинского города с белыми стенами домиков, зелеными железными крышами и пирамидальными тополями и лежащую на полу ничком маленькую, высохшую старушку с седыми волосами, разметанными по вытертому коврику.
Детское представление о смерти
В течение нескольких лет, в детстве, меня преследовал зловещий сон, приснившийся мне всего один раз, но потом долго не выходивший из памяти: как бы снился наяву, мучая своим странным содержанием.
…этот сон был изображением моей смерти…
Мне кажется, что у каждого человека в детстве — раньше или позже — всегда внезапно наступает миг, когда он со всей очевидностью начинает понимать, что он смертен и ему непременно когда-нибудь предстоит умереть, перестать существовать, жить, — мысль, к которой невозможно привыкнуть.
Мой сон состоял в том, что я бегал по нашей столовой вокруг не покрытого скатертью круглого ясеневого — а может быть, и елового, — желтого обеденного стола, а за мной гналось чудовище, но не живое, а сделанное из такого же ясеневого желтого дерева, как стол и как буфет. Впрочем, буфет был не ясеневый, а светлого дуба и был замечателен тем, что на его дверцах не было традиционных деревянных украшений в виде фруктов или зайцев, а только два деревянных кружка, вследствие чего буфет напоминал вятское лицо старушки — бабушки, папиной мамы, с ее круглыми глазами.
Чудовище, которое за мной гналось, представляло из себя бессмысленное деревянное сооружение — мебель! — не то стул с непомерно высокой лестницеобразной спинкой, не то выросший до потолка буфет с круглыми деревянными бабушкиными глазами.
Самое ужасное, пугающее, заключалось в том, что, хотя чудовище было деревянное и стучало по полу деревянными ножками — как лошадь стучит копытами, — оно в то же время было разумное существо, старающееся меня догнать и схватить, — и тогда я погиб!
Я боялся оглянуться, задыхался, и временами мне казалось, что за мной вокруг стола уже гонится, стуча костями, пожелтевший скелет с черной грудной костью, откуда расходятся сухие белые ребра.
Вместе с тем я чувствовал, что я уже не я, а этот самый скелет с черной грудной костью, который гонится за мной и хочет меня умертвить каким-то одним коротким движением. Я и скелет были одним и тем же предметом или даже не предметом, а существом, так что получалось:
…я гоняюсь сам за собой для того, чтобы причинить себе смерть, уничтожить свое сознание…
Для этого стоило только повернуть какую-то штучку в виде электрического эбонитового выключателя, вделанную в мою грудную кость и одновременно с этим вделанную в стенку возле двери, — и тогда для меня сразу наступит смерть.
Странное заключалось в том, что в то время у нас еще не было электрического освещения и я еще нигде не видел выключателя, хотя готов поклясться, что в этом детском сне участвовал выключатель, вделанный в мою грудную кость на грудобрюшной преграде, — черный эбонитовый выключатель, как бы появившийся чудесным образом из недалекого будущего, может быть, даже из Екатеринослава, где уже имелось электрическое освещение.
Впрочем, в этом не было бы ничего странного, если бы можно было поверить, что время движется не только в одну сторону — вперед, — но и в другую — обратно.
А почему бы нет? Может быть, это именно так и есть. Ведь время — вещь еще не вполне исследованная.
…Я бежал как сумасшедший вокруг стола, все убыстряя и убыстряя свой бег; я чувствовал за собою лошадиный стук высокого стула, меня все время ловили сбоку, желая пощекотать, какие-то руки, вроде того как иногда в веселую минуту ловили меня, сидя за столом, папа и мама, когда я норовил пробежать мимо них. Но среди этих добрых рук я чувствовал прикосновение сухих, холодных рук умирающего — уже умершего — на диване в гостиной дяди Миши с сумасшедшими глазами и редкой бородкой великомученика, и я испытывал леденящий душу страх смерти, невыносимый ужас, и чтобы — избавиться от него, сам убивал себя, повернув на своей грудной клетке щелкнувший выключатель, который в тот же миг погасил мою жизнь, и со всех сторон в меня хлынула тьма, лишенная звуков, немая, непоправимая, и уничтожила меня навсегда.
Проснувшись утром, я уже был не тот маленький веселый мальчик — полуживотное, получеловек, — я уже стал полностью человеком, навсегда отравленным неистребимой мыслью, верным знанием того, что я смертен и уже ничто не спасет меня от уничтожения.
Человеческий мозг
…Об Иване Ивановиче Творожкове пошла молва как о выдающемся молодом ученом физиологе. Я думаю, он был сделан из того же теста, что Сеченов, Павлов, Мечников, Менделеев… Папа тоже, по-моему, принадлежал к этой породе, но он пошел по другой дороге — стал ординарным педагогом среднеучебных заведений, не мог себя отдать только науке.
Творожков — тоже уроженец Вятки — как-то очень подходил к папе: их беседы всегда имели возвышенный научный характер, ничего общего не имеющий с пустой обывательской болтовней.
Они касались непонятных для меня университетских, научных вопросов, иногда спорили, кипятились, и тогда папа начинал торопливо и неразборчиво говорить, так же как и Творожков, по-вятски произнося вместо "ц" — "ч".
Исследуя в своей университетской лаборатории человеческий мозг, изучая его функции, его механизм как центр психической деятельности человека, соединяя теорию ученого с практикой врача-психиатра, Творожков создал свою особую теорию наследственности, сущности которой я не понимал, а лишь догадывался, что эта теория состоит в утверждении передачи из рода в род изъянов в веществе головного мозга, влекущих за собой наследственные особенности личности, а также психические заболевания, сумасшествие, преждевременную смерть.
![Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/uploads/posts/books/210189/210189.jpg)