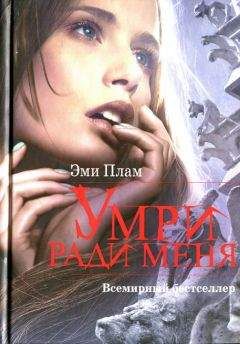Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
В управе оказалось, что тетя набрала больше всех пожертвований, и ей была вынесена публичная благодарность, но папа не одобрил всего этого, назвав «недостойной игрой в благотворительность».
Быть может, ему просто не понравился излишне щеголеватый студент, который, впрочем, больше у нас не появлялся…
Я долго не мог этого забыть.
…наверное, его постигла участь всех других поклонников тети: получил отказ.
Был еще преподаватель духовного училища, уроженец Умани со странной фамилией Кривда — украинец в вышитой рубашке под форменным учительским пиджаком, человек с тыквообразной головой, едва прикрытой несколькими аккуратно разложенными волосками; он пил у нас чай, макая шевченковские усы в блюдце, очень веселился и все время порывался рассказать по-украински что-нибудь смешное, причем ласково и сладко, как толстый кот, посматривал на тетю.
Один из его анекдотов я запомнил.
Однажды хохол заспорил с турком, чей бог лучше. Спорили долго и ни до чего не могли договориться. Тем часом набежала черная-пречерная хмара, началась гроза и как вдарит молния, а за нею гром!… «Це наш бог бьеть вашего бога», — сказал турок, а хохол-казак ему меланхолично отвечает: «Так ему и надо: нехай с дурнем не связывается».
Слово «связывается» Кривда произносил как «звьязувается».
Одно время в поклонники тети записался троюродный брат папы, приехавший из Вятки, некто Иван Иванович Творожков, так же, как и папа, учившийся после окончания духовной семинарии в Новороссийском университете; он благополучно поступил на медицинский факультет и уже дошел до четвертого курса. Он был беден и, по-видимому, искал невесту с приданым, хотя бы маленьким, для того чтобы иметь возможность окончить университет. Он говорил как настоящий вятич, «лапшеед». Половину слов трудно было разобрать, точно и впрямь его язык запутался в лапше, так же, как и у бабушки, папиной мамы. Он то и дело очень по-провинциальному потирал потные руки, ни к селу ни к городу начинал как-то застенчиво, по-китайски смеяться — хи-хи-хи, — чай хлебал с блюдечка, держа его перед собой на трех пальцах, обязательно вприкуску, зажав между передними зубами крошечный кусочек сахара. Вместе с тем было известно, что он необыкновенно талантлив и считался на факультете одним из самых блестящих студентов.
Разумеется, из его сватовства ничего не вышло, и он как-то сконфуженно удалился в своем потертом пальто, бородатый, добрый, смущенный, с умным простонародным лицом Пирогова, в кепке с пуговичкой и в старых, хлюпающих калошах.
Года через три он вдруг появился у нас, уже будучи прозектором по кафедре анатомии, прилично одетый, и представил нам свою жену — совсем не молодую поповскую дочку, на которой он женился по расчету, из-за приданого в три тысячи рублей.
Он был явно смущен, и на его лице типичного русского ученого-самородка было написано столько грустной доброты, что нам всем стало его жалко, тем более что его жена, женщина серой провинциальной внешности, одетая в шелковое коричневое платье, вела себя очень стесненно, неуклюже, громко сморкалась в платок, который вынимала из рукава своего платья, а когда в конце обеда подали на сладкое вишневый компот, то она выплевывала вишневые косточки в горсть, и в это время ее лицо делалось каким-то утиным. Они иногда посещали нас по-родственному, а однажды пришли под Новый год к яблочному пирогу с запеченным в нем на счастье гривенником и принесли две бутылки донского игристого шампанского с засмоленными пробками, привязанными веревочками.
…тогда я впервые в жизни попробовал донское игристое, и оно мне, признаться, очень понравилось…
Последний тетин поклонник появился уже в начале первой мировой войны. Это был миссионер нашей губернской епархии. Несмотря на такую странную романтическую профессию, которая в моем представлении была связана со смертельно опасной, подвижнической жизнью на каких-нибудь коралловых островах или в джунглях девственных лесов, кишащих ядовитыми змеями, мухами цеце, дикими зверями, вопреки моему представлению миссионера в виде подвижника в грубом монашеском рубище, с пылающим, неугасимым пламенем веры в глазах, просвещающим дикарей, наш одесский епархиальный миссионер, выходец из Калуги, ведущий борьбу на религиозных диспутах с раскольниками и разными сектантами, имел самую ординарную внешность, был мал ростом, мелок, тщедушен, носил старый пиджачок, брюки, вздутые на коленях, и довольно забавно тряс своей козлиной бородкой, уж никак не напоминая духовное лицо.
Приезжая из Калуги после каникул, он долго пил у нас чай, рассказывал о никому не интересных калужских новостях.
Разумеется, никаких шансов покорить сердце тети у него не было, тем более что он оказался тайным алкоголиком, и я однажды видел его совершенно пьяным, сидящим у нас на ступенях парадной лестницы.
По-видимому, он плелся к нам с визитом, но не доплелся, присел на ступеньку перевести дух да так и заснул, распространяя вокруг себя запах самогона: водка тогда уже была по случаю войны запрещена.
Через некоторое время тетя уехала от нас в Полтаву, где жил ее двоюродный брат, богатый помещик и земский деятель Евгений Петрович Ганько, тоже бывший, вероятно, некогда тетиным поклонником, и стала вести его хозяйство, заменив свою умершую двоюродную сестру Зинаиду Петровну Ганько.
…Хорошо помню этого самого Евгения Петровича. Он был большой барин, сибарит, бонвиван, любил путешествовать по разным экзотическим странам и несколько раз, возвращаясь на пароходе добровольного флота из Китая, Гонконга, Египта или Индии, проездом через Одессу в Полтаву неизменно наносил нам семейный визит, привозя в подарок разные диковинные сувениры: японские лакированные пеналы, страусовые яйца и перья, циновки, плетенные из тончайшей египетской соломы, портсигары, украшенные изображением священного жука-скарабея, и прочее. У него было могучее, хотя и довольно тучное от неумеренной жизни телосложение, ноги, разбитые подагрой, так что ему приходилось носить какую-то особенную бархатную обувь вроде шлепанцев, и великолепная голова с римским носом, на котором как-то особенно внушительно, сановно сидело золотое пенсне, весьма соответствующее его сенаторским бакенбардам и просторной пиджачной паре от лучшего лондонского портного, источавшей тонкий запах специальных мужских аткинсоновских духов…
К началу войны Евгений Петрович одряхлел, почти уже не мог ходить и по целым дням сидел у себя в Полтаве в удобном кирпичном особняке, построенном в украинском стиле, окруженном тенистым полтавским садом, в вольтеровском кресле, с ногами, закутанными фланелью, и перелистывал старые комплекты французского журнала «Ревю де Дю Монд» или занимался своими марками, и я слышал, что он был великий филателист и владел бесценными коллекциями, из которых одна была единственной на весь мир — коллекция полтавской уездной земской почты.
![Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/uploads/posts/books/210189/210189.jpg)