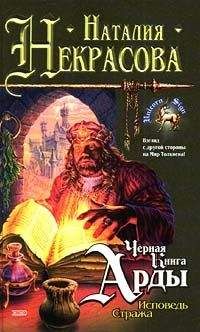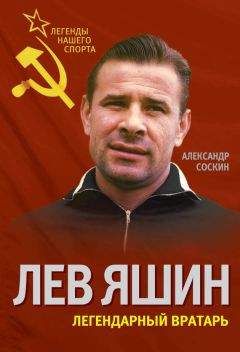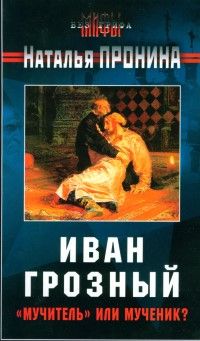Лев Копелев - Мы жили в Москве
Тогдашняя разноголосая, иногда неумеренно риторическая эстрадная поэзия воспитывала новые поколения интеллигенции.
Студенты и школьники переписывали стихи, спорили о них. Они приходили на поэтические вечера в Политехнический, как это бывало в 20-е годы. Они заполняли даже огромный — на 14 тысяч мест — спортзал стадиона в Лужниках. Молодые поэты встречали такое восторженное поклонение, какое редко доставалось самым популярным тенорам и чемпионам спорта. Это вызывало и яростные споры, и страхи: секретарь Ленинградского обкома Толстиков просто запретил в Ленинграде выступления Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко.
Р. …В сентябре 1956 года в музее имени Пушкина впервые открылась выставка Пикассо. Тысячная толпа осаждала музей. Открытие задерживалось, и мы, стоявшие под лестницей, услышали голос Эренбурга: «Товарищи, мы ждали этой выставки двадцать пять лет, подождем еще двадцать пять минут…» Как весело, победно мы тогда смеялись.
Готовились новые издания еще недавно запретных книг Бруно Ясенского, Исаака Бабеля, Леонида Мартынова, Николая Заболоцкого, Михаила Зощенко.
Роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» публиковался в 1956 году в августовском, сентябрьском, октябрьском номерах «Нового мира». Бескорыстному энтузиасту-изобретателю всячески мешали равнодушные бюрократы. Но в конце концов герой преодолевал помехи. Этот роман стал тогда событием чрезвычайным: о нем говорили и спорили не только писатели и критики. В прямолинейных коллизиях этой книги читатели узнавали то же, что испытывали они сами, их близкие.
«У нас на заводе так же было… В нашем министерстве я знаю несколько таких чиновников… Я думаю, Дудинцев писал этого бюрократа с нашего главного врача… И у нас в институте была такая же история, только нашего изобретателя засудили прочно, он и умер в лагере…»
И я представляла себе партследователя Судакова, который отравлял жизнь друзьям Л. точно, как в романе Дудинцева.
В Союзе писателей дважды назначали обсуждение романа и отменяли: кто-то вообще был против, кто-то боялся «нездоровых сенсаций», кто-то просто завидовал внезапному успеху ранее вовсе неизвестного автора.
Ни мы, ни кто-либо из наших близких не считали книгу Дудинцева значительным художественным произведением. Но ведь и «Хижина дяди Тома», и «Что делать?», и «Как закалялась сталь», столь повлиявшие на нас в юности, были просто слабыми книгами. Однако они остались историческими, рубежными событиями.
Таким становился роман Дудинцева «Не хлебом единым».
Билеты на обсуждение в клубе писателей распределял партком по строгим «номенклатурным» спискам.
«Дубовый зал» бывшего дома графов Олсуфьевых, где некогда собиралась масонская ложа, служил московским литераторам попеременно то рестораном, то залом заседаний — выносили столики, вносили много стульев и скамей. Мы остались после обеда и заблаговременно уселись на балконе. Зал заполнился задолго до назначенного часа, не одни мы ухитрились забраться досрочно. Долго не начинали. Снаружи шумела толпа, висели на окнах. Наконец, сквозь толчею пробрались Владимир Дудинцев, руководитель обсуждения Всеволод Иванов, редактор «Нового мира» Константин Симонов. Они не могли войти в здание из-за толпы, их провели через подвал.
Выступавшие хвалили роман, все считали, что его надо издать. Представитель Общества изобретателей рассказывал о горьких, страшных судьбах людей, подобных тем, которых описал Дудинцев. «В романе все обстоятельства смягчены, судьба героя — исключительно счастливая».
Валентина Овечкина встретили аплодисментами, но когда он сказал, что роман перехваливают, не хотят видеть ограниченности автора, в зале стали шикать, провожали его несколькими жидкими хлопками.
Главным событием вечера стала речь Константина Паустовского — он впервые с трибуны заговорил о новом классе.
Он сказал, что бюрократы, порожденные эпохой культа Сталина, описанные в романе Дудинцева, — отнюдь не исключение. Мы их постоянно встречаем в разных местах.
«Дудинцев выразил тревогу. Его книга — это грозное предупреждение об опасности, идущей от дроздовых. Это реальная опасность… Дроздовы спесивы и равнодушны. Они враждебны ко всему, кроме собственного положения. Кроме того, они дико невежественны… …Величайшая заслуга Дудинцева — он ударил по самому главному, раскрыл психологию этого нового племени…
Откуда все это взялось? Почему они говорят от имени народа? Обстановка приучила их относиться к народу как к навозу. Если бы не было дроздовых, то живы были бы великие, талантливые люди — Бабель, Пильняк, Артем Веселый… Их уничтожили Дроздовы во имя собственного благополучия…
Народ, который осознал свое достоинство, сотрет дроздовых с лица земли. Это первый бой нашей литературы, и его надо довести до конца».
И в тот вечер, и еще долго после него было разделение: «за» или «против» Дудинцева.
3 ноября 1956 года в доме наших друзей несколько человек долго спорили. Две мои близкие подруги чуть не плакали: «К чему это приведет? Наши дети, читая таких, как Дудинцев, вовсе перестанут уважать нас и своих учителей, и советскую власть». Л. кричал, что такие книги могут только помочь восстановить советскую власть, разрушенную Сталиным…
Бурные страсти успокоил телефонный звонок. Одного из гостей извещали, что его жена родила дочь.
Спорщики угомонились, все пили за здоровье и счастье новорожденной и ее родителей.
Третьего ноября 1976 года мы праздновали двадцатилетие девочки, родившейся в день того спора. Когда стали об этом вспоминать, она спросила: «А кто такой Дудинцев?» И никто из гостей — ее сверстников — не знал этого имени.
Мы стали рассказывать, а молодые люди не могли понять, чем именно такой невинный «производственный роман» мог волновать их родителей. Мы и наши ровесники, кто с недоумением, кто с печалью пытались объяснить, что это значило для нас, почему мы надеялись, что такие книги помогут улучшить жизнь в нашей стране.
Наши молодые собеседники знали о современной истории куда больше, чем мы в те годы. Они уже прочитали «Доктора Живаго», книги Александра Солженицына, Надежды Мандельштам, Евгении Гинзбург, Милована Джиласа, Лидии Чуковской, горы самиздата.
Государство и все формы официальной общественной жизни были им глубоко чужды, чаще всего просто безразличны, в иных случаях враждебны. Отстраняясь от них, они искали убежища в работе, в семье, в спорте, в религии, в искусстве…
Еще долго после обсуждения в ЦДЛ в 1956 году мы рассказывали о нем. Я стремилась возможно подробнее записать многие речи, ничего не комментируя; у меня еще не возникало мыслей об архивах, о свидетельствах, об истории — это пришло позже. Вначале была просто оставшаяся от студенческих лет привычка записывать. Я видела, что эти мои блокноты нужны, и не только моим друзьям, и я записывала все более точно, тщательно. Ведь обычный пересказ по памяти, даже сразу после события, невольно искажает чужие слова.