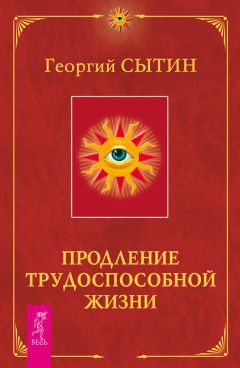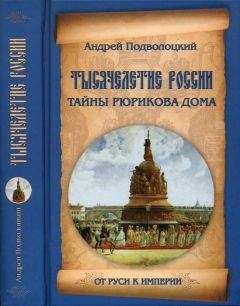Аркадий Арканов - Вперёд в прошлое
– Вот почему так происходит? – задумчиво сказала Сухарик. – Часто люди, только когда становятся взрослыми, понимают, что они должны сделать, чем заниматься, как жить... Почему? Вы не задумывались?
– Мы уже так долго разговариваем, а все на «вы»... Я буду на «ты». Ладно?.. Знаешь, почему так происходит? Потому что все перед нами разложено по полочкам...
– Не понимаю, – сказала она.
– Ну, как тебе сказать?.. На все есть ярлык с наименованием и ценой. Отдать свою кожу обгоревшему человеку – это хорошо. Это подвиг. Отделяться от коллектива – это плохо. Это индивидуализм. Делать карьеру – это плохо. Быть отличником – это хорошо... Пойти на завод после школы – это прекрасно!.. И мы верим на слово: это хорошо, а это плохо. А почему? Почему это хорошо, а это, например, плохо? Мы сами хотим во всем разобраться. Нам не нужны готовые решения. А когда мы просим помочь, объяснить, нам говорят: это хорошо, потому что это хорошо. А то – плохо, потому что то – плохо!.. А вот если человек отдал свою кожу для того, чтобы прославиться? И хорошо вроде бы, и плохо. А чего тут больше? Вот и мы в школе – ходим перед этими полочками, тыркаемся, в ярлычки заглядываем, к цене присматриваемся. А кое-где наименования перепутаны и цены стерлись... Иногда говорят: отрава! Отрава! А попробуешь – вкусно...
– Правильно, – она ткнула носком камешек, – но ведь есть и безусловно плохие вещи... Подлость, зависть, война...
– Да, я не спорю. Но когда мне все время талдычат: «Ты живешь на всем готовеньком, прыгаешь, танцуешь, джазы всякие слушаешь, разглагольствуешь, а люди в твои годы уже на фронте были...» Да что я, виноват, что на фронте не был?!
– У Друниной есть такое стихотворение: «Мы сами пижонками слыли когда-то, а время пришло – уходили в солдаты»...
Я сижу, прислонившись спиной к дереву, и все что-то думаю, думаю, вспоминаю... А между тем пошла уже вторая попытка, и я слышу голос судьи-информатора: «Прыгает Крягин, приготовиться Поливанову!» Это приготовиться мне. Я встаю с земли и разминаюсь. Сухарик уже одна. Что-то читает. Павлина рядом нет. А зачем она вообще пришла?
– Дай-ка я тебя щелкну! – подбегает Нос. – Только голову немного вправо, чтобы фингала твоего не было видно!
– Слушай, надоел ты мне со своим щелканьем, – говорю я Носу, но он не обижается. Я трогаю фингал под правым глазом. Болит прилично... Крягин сбивает планку еще на взлете. Теперь я. Нос бежит к яме и устраивается. Я отмеряю ступнями от края ямы до толчковой точки и направляюсь к месту, с которого начинаю разбег. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ту-дук. Ту-дук. Это сердце. Расслабляюсь. Бегу... Ну!.. Весь в толчок!.. Какой-то звериный звук вырывается из груди в момент толчка. Я над планкой, да еще с запасом! Взял?! И я сбиваю планку левой рукой...
Я сижу в яме. Планка рядом. Сухарик стоит и испуганно смотрит на яму, в которой сижу я. Книга на лавочке... Не взял. Опять не взял. Так здорово толкнулся и сбил.
– Возьмешь, Кузнечик! Все в порядке! Возьмешь! – поднимает меня из ямы физрук. – С запасом!.. Руку только убери, руку!..
– Что мне ее, отрубить? – раздраженно говорю я и понимаю, что так удачно толкнуться еще раз будет трудно. Я натягиваю шерстяной тренировочный костюм и начинаю нервно ходить по сектору. Я заволновался. Осталась последняя попытка... Подойти, что ли, к Сухарику? Нет! После субботы не могу... Меня начинает мутить, как только я вспоминаю субботу. Нет, не взять мне сегодня сто девяносто, не взять. Ясно как божий день...
Уже май. Год пролетел, как урок... И ведь все было нормально. А что, собственно говоря, было? Ничего. Так просто... Ну да! Это формально ничего. А на самом деле я весь этот год был сосредоточен на Сухарике... Как-то на уроке Нос заявил:
– А ты знаешь, я ее с Павлином видел на хоккее...
– Подумаешь, ерунда, – сказал я весело, хотя и получил пыльным мешком по башке. – Это ерунда... Ни о чем не говорит... Захотела и пошла на хоккей...
Мы замолчали. Жуткая тоска напала на меня. Павлина я не любил. Он был ограниченным нахалом и, по его словам, «кое в чем» преуспел. Во всяком случае, от него исходили всякие поразительные истории. Что, мол, однажды во время вечера он застукал химичку с физруком прямо в кабинете химии... Что он сам этим летом работал помощником вожатого в лагере и с одной пионеркой у него были трали-вали на сеновале... И вот, пожалуйста, Сухарик с Павлином на хоккее... Потом он ее провожает домой, стоит, наверное, у подъезда... Я вздрогнул... А с другой стороны, что особенного? Ну, сходила раз на хоккей... Она же мне ничем не обязана... Нет, надо все выяснить! Да – да! Нет – нет! И до свидания!..
– Поливанов! – вдруг обратилась ко мне Ангелина Сергеевна. – Идите-ка к доске.
Я подошел к доске и повернулся лицом к классу.
– Прочтите-ка мне наизусть ваше любимое стихотворение...
– Любимое? – сказал я ожесточенно.
– Да. Самое любимое.
– «И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды...» – начал я чеканить каждую строчку... Я читал, а сам смотрел на Сухарика уничтожающим, ненавидящим взглядом. Я читал так, словно Лермонтов специально предназначил свои стихи для ниспровержения Сухарика, для обвинения ее в предательстве и в том, что она стала причиной моей безысходности и одиночества. «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая шутка...» – Последние две строчки я прочел так, словно ждал, что сейчас Сухарик бросится мне на шею со слезами и просьбами о прощении.
– Это ваше любимое стихотворение? – после паузы спросила Ангелина Сергеевна.
– Да! – почти выкрикнул я.
– Садитесь. Я ставлю вам двойку. Вы не имеете права в вашем возрасте восхищаться этим гениальным стихотворением!
– Могу прочесть и более жизнерадостное! – сказал я с издевкой и на ходу стал сочинять вслух:
Мы счастливей всех на свете!
Мы добрались до Луны!
Мы, и взрослые, и дети,
Навсегда во всем равны.
В классе захихикали.
– К тому же вы еще и дурачок, – сказала Ангелина Сергеевна. – Остаток урока можете провести в коридоре.
Я выскочил из класса, обозначив для себя протест против Сухарика. На перемене все остались в классе: Сухарик стала показывать нашим девам, как надо танцевать джерк. Она выстроила человек десять в шеренгу, и вся шеренга повторяла за ней движения. Хлеб изображал трубу и отстукивал ритм на крышке парты.
Ко мне подошел Павлин:
– Вчера мы с моей Томкой в компании были у одного студента... Ну, я тебе скажу, она так танцует!.. Все парни на нее упали...
Для всех Томка была Сухариком, а этот гад назвал ее «Томкой», да вдобавок еще и «моей Томкой»!
– Где это вы с ней были? – с трудом сохраняя безразличный тон, спросил я.
– Да ты не знаешь... У одного малого. У него такие записи – закачаешься! Родители его где-то в Африке... Часов до двух куролесили...