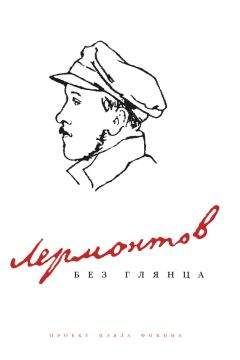Павел Фокин - Цветаева без глянца
Особенно она любила заключительные строки:
Человечество все же богато
Лишь порукой добра круговой! [1; 402]
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.
Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.
Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»
Всю жизнь была велика — и неудовлетворена — ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное [1; 144].
Эмилий Львович Миндлин:
Она читала <…> твердо и вся отдавшись ритму стихов. Читала, словно ворожбой заговаривала, время от времени встряхивая головой — обычно в конце строфы. В отличие от Мандельштама, читая, не смотрела на слушателя, будто читала для себя одной.
Иногда у нее бывал смущенный, даже как бы виноватый вид, когда она начинала читать, и становился державным после третьей, пятой строки. Последнюю строку она произносила скороговоркой, почти глотая, словно спохватываясь, что долго читает, и спешила поскорее закончить [1; 119].
Семен Израилевич Липкин (1911–2003), поэт, переводчик, мемуарист:
Читала Марина Ивановна наизусть. Читала просто, без каданса, голос свежий, прелестный, чисто московский, но мне показалось, что как-то резко, отрывисто произносила строки, нарочито подчеркивая их отстраненность от привычной стиховой музыкальности [1; 499].
Марина Ивановна Цветаева:
Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актера и поэта — разное. Дело поэта: вскрыв — скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покрова голоса — он гол. Поэт всегда заметает следы. Голос поэта — водой — тушит пожар (строк). Поэт не может декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт — уединенный, подмостки для него — позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наисовершеннейшим из проводов!), использовать Психею для успеха?! Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!
— Я не импресарио собственного позора! [6; 519]
Ариадна Сергеевна Эфрон. Из письма П. Г. Антокольскому. 13 марта 1963 г.:
С одинаковой взыскательностью относилась к переводам и у сильных и слабых поэтов. К последним еще взыскательнее, ибо задача труднее. <…>
У меня хранится много ее переводов; громадное количество черновиков — свидетелей громадной работы в глубину, не по поверхности [17; 275].
Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. С. Эфрон. Москва, 23 мая 1941 г.:
Я сама себе препятствие. Моя беда, что я, переводя любое, хочу дать художественное произведение, которым, часто, не является подлинник, что я не могу повторять авторских ошибок и случайностей, что я, прежде всего, выправляю смысл, т. е. довожу вещь до поэзии, перевожу ее — из царства случайности в царство необходимости, — так я, недавно, около месяца переводила 140 строк стихов молодого грузина, стараясь их осуществить, досоздать, а матерьял не всегда поддавался, столько было напутано: то туманы — думы гор, то эти же туманы — спускаются на горы и их одевают, так что же они: думы — или покров? У автора — оба, но я так не могу, и вот — правлю смысл, и не думай, что это всегда встречается сочувственно: — «У автора — не так». — «Да, у автора—не так». Но зато моими переводами сразу восхищаются чтецы — и читатели — п. ч. главное для них, как для меня — хорошие стихи. И я за это бьюсь [13; 428].
Семен Израилевич Липкин:
Посреди Садовой она внезапно, порывисто вытащила руку из-под моей руки и сказала:
— У меня к вам несколько вопросов. Мне предложили редактировать французский перевод одного эпизода калмыцкого эпоса «Джангар». Перевод с вашего перевода сделал московский француз… (она назвала фамилию, я забыл). Французский язык не так приспособлен, как русский, к тому, чтобы передать всю вашу азиатскую орнаментику, аллитерации и прочее. Наш француз вообще не рифмует. У вас размер такой же, как в подлиннике?
— Чтение подлинника мало что дает. В исполнении сказителя, джангарчи, иные гласные редуцируются, иные растягиваются. Я записывал со слов сказителя.
— Что такое Эрлик-хан?
— Судья умерших. Владыка ада.
— Хал вынь?
— Халвинг. Головной убор замужней калмычки.
— Вроде наших хористок в кокошниках?
— Нет. Этот убор в быту и сейчас.
— Чиндамани?
— Три драгоценных талисмана, которые на берег ежедневно выбрасывает океан Бумба.
— Океан, как я поняла, священный, а словцо какое-то детское: Бумба. Мне не очень по душе ваш способ перевода. Думаю, что словарь кочевничьего эпоса должен быть более прост, груб.
— Калмыки действительно раньше кочевали, образ жизни их и сейчас прост, но их эпос на протяжении веков отделывали буддийские монахи, благодаря буддизму «Джангар» связан с оригинальной индуистской философией. А калмыки вовсе не грубы. Расскажу вам один случай. В глубине степи, в слабо освещенном сельском клубе, я слушал одну песнь эпоса. С помощью домбры ее исполнял джангарчи, еще не старый. И вдруг он заснул. В зале наступила тишина. Она длилась несколько минут, пока сказитель не запел снова. Потом я спросил у своего спутника, драматурга Баатра Басангова: «Что же произошло?» Он мне объяснил: сказитель дал знак слушателям, что святые, сладостные звуки эпоса перенесли его на несколько мгновений в нирвану. Слушатели поняли и тоже заснули, как бы удалились из нашего иллюзорного мира в мир вечный.
— Вот это чудо. Ваш рассказ лучше вашего перевода.
— Спасибо. Помните ли вы, Марина Ивановна, что калмыками интересовался Пушкин? Наш гений нашел время, чтобы сделать пространные выписки из трудов монаха Иакинфа Бичурина, посвященных истории калмыков. В своем «Exegi monumentum» Пушкин сначала написал «сын степей калмык». Узнав от Бичурина, что калмыки пришли в приволжскую степь из горной Джунгарии, он слово «сын» заменил «другом».
Цветаева восхитилась:
— Вот это святость. Святая точность. Святость ремесла. Вот так надо работать [1; 499–500].
Ариадна Сергеевна Эфрон. Из письма М. С. Булгаковой. 1968 г.:
В своей стихотворной работе была точна: видимая сложность многих ее вещей лишь от предельной точности выражения [5; 175].