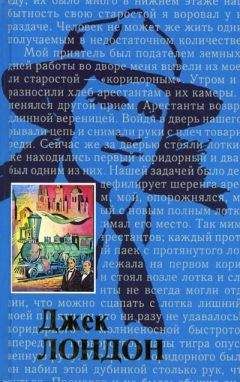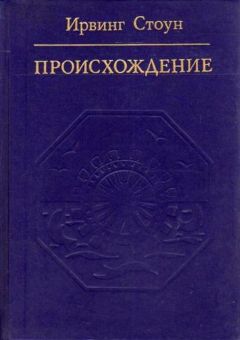Юрий Бондарев - Выбор
За дверью ванной не слышно было движений Марии, отдаленно и ровно шумела из кранов вода, от этого сиротливо-однообразного плеска стало неприютно, одиноко в номере, и Васильев неуспокоенно заходил по комнате, засунув руки в карманы, наконец сказал около двери ванной:
— Маша, я — в бар за сигаретами, скоро приду!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В ночном баре, тихом, свободном, Васильев купил две пачки «Сэлем», слабые сигареты с ментолом, которые нравились Марии, затем, как это делал всегда, не зная чужого языка, чересчур самоуверенно показал бармену глазами куда-то в джунгли бутылок среди зеркальной неразберихи, сказал на понятном во всех ресторанах мира полуанглийском, полунемецком языке:
— Джин унд тоник, плиз, битте зер[3].
Толстолицый бармен в ярком малиновом жилете, виртуозно поигрывая бутылками, льдом и бокалами, ослепляя эмалью снежных зубов, сицилийской чернотой глаз, сверканием крупной булавки в галстуке, радостно поприветствовал Васильева, как давнего почтенного знакомого, хотя видел впервые, и ответил охотно, принимая его за немца:
— Ein Moment. Danke, vielen Dank[4].
Справа за стойкой сидела молодая пара вполне современной наружности, двое одинаковых длинноволосых, в одинаково грубых свитерах, она держала сигарету в тоненьких пальцах, сонно потягивала из бокала, смотрела перед собой прозрачным стеклянным взором, загибая улыбкой края пухлого, детского рта, а он, обняв ее за плечи, шептал что-то на ухо ей, целовал в щеку, в шею, в губы, она же бесчувственно продолжала изгибать углы младенческого рта улыбкой, пребывая в неподвижном, мнилось, наркотическом забвении. Рядом с ними пили коктейль пожилые американцы, видимо, супруги, он худой, до блеска кожи выбритый, заметно молодящийся, в спортивном клетчатом костюме, не по-стариковски острыми глазами оглядывал бар, молодую пару, Васильева, стоявшего у стойки, и одновременно негромко говорил что-то своей спутнице, будто перекатывая во рту целлулоидные шарики, а она, тоже молодящаяся, подрумяненная, крупная телом, в довольно-таки кокетливой шляпке (наверняка купленной во время очередного приезда в Париж, 8 часов на «Боинге», аэродром Кеннеди, Нью-Йорк — аэродром Орли), посасывала через соломинку фиолетовую жидкость, посмеивалась басом, выказывая прекрасные выпуклые фарфоровые зубы. И, как подумалось Васильеву, их любопытство, их незастенчивая жизнерадостность были хорошо обоснованы беспечальным странствием по Западной Европе, где не менее приятно, чем в Америке, тратить деньги, наслаждаться комфортом, сервисом, переменой мест, хорошим аппетитом и европейскими музеями.
Слева от Васильева, в угрюмой сосредоточенности, уставясь на кофейный автомат, распространявший теплый, тропический запах, одиноко сутулился над стаканом виски нелюдимого вида толстяк, тяжко сопящий; его багровая шея складкой наплывала на воротник пиджака, спина была круглой, подобная подушке; и был он похож на бывшего борца или тяжелоатлета, заработавшего деньги и теперь бесцельно путешествующего по миру, на волосатых руках переливались голубым огнем перстни, и пальцы его наводили на мысль о пристрастии к картам, крупной игре и азарту.
Это была привычка Васильева — наблюдать за людьми подробно, подчас вовсе уж открыто, делая нужные отметки в памяти, но сейчас его интересовало другое. Ему представилось, что Илья, следуя за ними из Рима, остановился здесь, в одном отеле, и, вероятнее всего, можно было его встретить либо в ресторане, либо в баре. Ресторан, мимо которого он прошел, был совершенно пуст, пригашенный свет бра дремотно горел по бокам стеклянных дверей, только бар в вестибюле был весь в красноватом дымном озарении, тихонько шелестела музыка, успокоительно плыла из этого зарева, и Васильев сел к стойке, осматриваясь. Нет, человека, которого он мог бы мгновенно узнать и назвать Ильей, облик которого с детства врезался в сознание, не было в баре.
Между затяжками сигаретой он выпил джин с тоником, освежающий льдистым холодом (кусочек гладкого льда коснулся его зубов), заказал «дубль» и снова осмотрел немногочисленных посетителей в баре, уже не понимая, почему так хотел сию минуту увидеть Илью, подталкиваемый подсознательным чувством. Но это чувство вдруг предупредило его об опасности, и разум начал тихо подсказывать сдержанную позицию умудренного опытом человека.
«Значит, боюсь встречи с ним? — подумал Васильев с презрением к самому себе. — Что я боюсь? Илью? Последствий разговора с ним? Нет, я обязан увидеть его в живых, своего бывшего друга, с которым в школе и на войне три пуда соли съели… Неужели действительно жив Илья? Не могу представить, что я его увижу!..»
— Noch einmal?[5]
Он услышал общительный голос бармена, произнесшего эти понятные для международного общения слова, и увидел, что тот, взбалтывая коктейль, весело косится в сторону американской пожилой пары, которая деловито наклоняла головы над разложенной на стойке свежей газетой «Коррьере делла сера», после чего заинтересованно взглядывала в направлении тучного человека с нелюдимой наружностью бывшего борца.
— Грацие, нох айнмаль, битте[6], — ответил Васильев на изобретенной им итальяно-немецкой смеси, стараясь разгадать причину веселой оживленности бармена, и тотчас убедился, что внимание американской супружеской пары направлено не на тучного человека, а на него, и бармен участвует в этой игре, являясь посредником между американцами и Васильевым.
С ослепительной и вместе извиняющейся улыбкой проворный бармен («Excuse me, very sorry»)[7] осторожно потянул газету у американцев, осторожно пододвинул ее к Васильеву, выражая счастливое изумление на подвижном толстом лице, произнес, исполненный уважительного восторга: «О, вери гуд! Бон! Ка-ра-шо!» И вверху газетной полосы Васильев увидел фотографию, на которой он вполоборота стоял около своих картин, выставленных в Римском салоне, вспомнил, что вчера утром в отеле давал при помощи Марии интервью рыжеволосой девице дон-кихотского роста, голоногой, не в меру накрашенной, быстро чиркающей таинственные стенографические загогулины в блокноте, подумал, что «Коррьере делла сера» опубликовала вчерашнее интервью и либо бармен, либо американцы узнали его, хотя, конечно, маловероятно было встретить русского художника в этом отеле, да еще сидящим в ночном баре.
— Синьор Вас-силь-ефф? — сказал по слогам бармен вкрадчивым голосом и затем произнес длинную фразу, смысл которой, очевидно, заключался в приятной благодарности, потому что понятно было единственное слово «грацие».