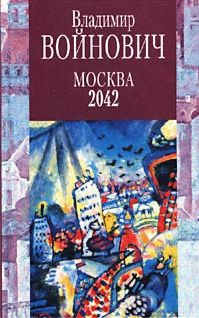Екатерина Мещерская - Китти. Мемуарная проза княжны Мещерской
Эти слова, не предвещавшие ничего хорошего, рождали во мне самые мрачные предчувствия. Я не знала, как себя вести, о чем разговаривать, не знала, как отвечать на вопросы, которые нам беспрестанно задавали. Любое необдуманно вырвавшееся слово грозило конфликтом. На каждом шагу нас сторожило недоверие, подозрительность, которые еще к тому же подогревались классовой ненавистью.
Я видела, что испуганная, слезливая Леля производит на всех противное впечатление, вызывая брезгливость и насмешку.
Хорошенькая Валя внушала мне иные опасения: она держалась довольно свободно, но это не было естественной простотой, нет! Ее природное кокетство, врожденная манера стрелять своими черными, румынскими, блестящими глазами безразлично на кого в сочетании с ее непомерным апломбом, с какой-то дешевой вычурностью, с манерой говорить в нос, растягивая слова, — все это создавало по отношению к ней особую настороженность и даже какое-то удивление.
Когда на ее глазах кто-то бросил под ноги дымившийся окурок, да еще раздавил его каблуком, Валя обожгла провинившегося уничтожающим взглядом:
— Уберите сейчас же эту гадость и пользуйтесь пепельницами: вон они, кругом вас, на столах стоят!..
Красавец Колосовский, не стесняясь нашего присутствия, громко объявил свое мнение о ней товарищам:
— Ишь заноза!.. Гонору-то сколько! Эта из них больше всех на княжну похожа. Ей-Богу, я бы именно ее княжной счел. — Насмешка и вместе с тем какая-то затаенная мужская искорка вспыхнула в его глазах и тут же погасла.
— Катя, свари-ка нам щец! — приказал мне Агеев.
Хозяйничая на кухне, я предавалась самым беспокойным размышлениям. Я боялась, что мы будем званы на этот обед. Запах кислых щей, вырываясь из-под крышки огромной кастрюли, вызывал у меня чувство головокружения. В котелке варилась настоящая картошка, и я смотрела на эту картошку как на великое чудо! Уже сколько времени мы считали за большое благо скользкие, розоватые, сладко пахнувшие гнилью картофельные очистки. Да, съесть щи с ломтем ржаного хлеба, а на второе съесть вареной картошки — это было бы великим блаженством, но я прекрасно понимала, что плата за этот обед будет слишком велика.
Прежде всего, это повлечет за собой необходимость проводить время в обществе Агеева. Конечно, Агеев опять захочет слушать «Чайку». Нет! Надо найти любой предлог, надо во что бы то ни стало отказаться от этого обеда!..
Выслушав мои шепотом высказанные соображения, Валя яростно запротестовала:
— Вот еще! С какой стати отказываться! Из-за твоей щепетильности сидеть голодными!
Но наш спор прервался. В кухню вошел Агеев. Он вынул из принесенных в кухню мешков сушеную воблу, нагнулся к печке и сгреб в поддувало мелких углей.
— Вот, учись, как надо печь воблу, — обратился он ко мне, разложив рыбу на потухавшие угольки. Чешуя тотчас начала румяниться и потрескивать.
Но тут один за другим товарищи Агеева стали заглядывать в кухню. Они делали друг другу какие-то знаки, шептались, подмигивали, слышались их приглушенные смешки. Было совершенно очевидно, что они что-то замышляют, но не хотят об этом при нас говорить. Затем все они начали расхаживать по кухне, снимать с полок поочередно одну кастрюлю за другой, щелкать по ней пальцами и советоваться между собой о чем-то, а о чем, мы с Валей не могли догадаться.
— Эта мала…
— Да ты вон ту возьми!
— Надо водой померить, сколько в нее взойдет.
— Да вы возьмите кастрюлю, изо всех самую большую!
— Нет, эта неудобная, она слишком низка, как бы не вспыхнуло…
— Давайте-ка приспособим вон то высокое ведро! Агеев, взглянув на нас, вдруг резко скомандовал:
— Ну, будя! Неча вам тут больше делать! Идите теперь наверх, собирайте на стол, а сюда больше не ходить!
Когда мы, удивленные, вышли с Валей из кухни, дверь за нами тотчас захлопнулась. Тут же звякнуло железо накидываемого крючка.
Покинутая новыми жильцами столовая была неузнаваема: всюду на креслах и на диванах валялись какие-то мешки, котомки и даже клочки сена, занесенные сюда, очевидно, из саней во время перетаскивания вещей и провианта; пол был усеян окурками, заплеван. С чувством физической тошноты мы принялись убирать чайную посуду и накрывать стол к обеду. Вдруг мы с Валей одновременно догадались: «Ханжа! Ну конечно, они собираются варить ханжу». Бог знает, что только не входило в это страшное пойло. А в те годы народ пил даже политуру — столярный лак. Ханжа… страшное слово! — Валя, — сказала я, накрывая на стол, — ты и Леля должны подчиниться моему решению. Мы должны сделать все, только бы отказаться от обеда.
— Значит, мы останемся голодными? — спросила Валя, уже не протестуя, но с жалким выражением лица.
— Почему голодными? Жили же мы до сих пор, ведь правда?.. Ты должна забыть о том, что эти люди приехали, что они привезли сюда хлеб, картошку, капусту и сало.
— Я не могу забыть об этом…
— А ты заставь себя, а главное, вспомни: ведь, уезжая, мама оставила нам еду. У нас есть лепешки, и, наконец, мы даже можем нарушить запрет и вскрыть запечатанный и хранящийся к Рождеству горшочек с украинским смальцем. Я думаю, что мама не будет сердиться, ведь неизвестно, что с нами будет… Эти люди приехали из района, чтобы выселить нас. Разве ты не слышала, что они хотели тут же выгнать нас на мороз чистить снег, а затем, к вечеру, отправить нас на грузовике в Нару? И с этими людьми ты мечтаешь сесть за один стол? Еще неизвестно, что нас ожидает через несколько часов, ты можешь себе представить, что с ними будет, когда они напьются?!
Валя больше не возражала, и, накрывая на стол, мы, словно заговорщики, вполголоса, шепотом намечали линию своего поведения.
Когда я сказала Агееву, что у нас с Валей болит голова и что нас, наверное, продуло сквозняком на кухне, а потому мы просим разрешения уйти к себе наверх спать, он даже и возражать не вздумал, а, крякнув, махнул мне в ответ рукой, что, видимо, означало его полное согласие.
Прибежав наверх, мы достали лежавшие между окнами, на холоде, оставленные нам лепешки, достали «заветный» горшочек со смальцем, позвали Лелю.
Снизу доносилось беспрестанное хлопанье дверей, топот и суета. Ожидание выпивки вызвало среди приезжих необычайное оживление. Запах ханжи, отвратительный, тошнотворный, был настолько едким, что, поднявшись из кухни в первый этаж, он проник даже к нам на второй… Но вот топот сапог по лестницам прекратился, и весь шум и гомон перешел в столовую, которая находилась прямо под гостиной, в которой мы втроем сидели.
Чувство радостного облегчения охватило меня от сознания, что мы наконец у себя, что до следующего утра мы не увидим больше хозяев нашей судьбы и жизни. Я думала также и о том, что не такие уж они страшные, эти люди, какими они мне показались сначала, и что сам Агеев не такой уж плохой человек, и никогда еще лепешки из картофельных очистков не казались мне столь вкусными…