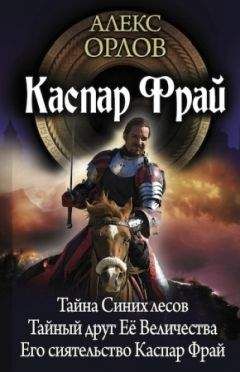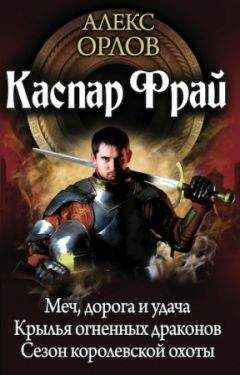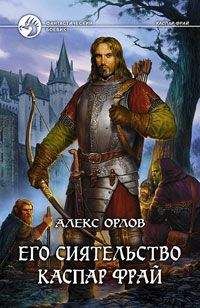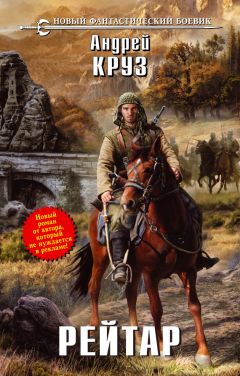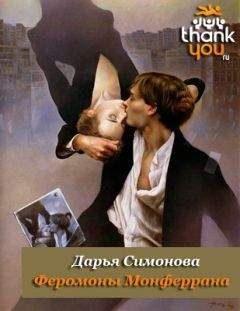Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
– Да тише вы, тише, пожалуйста!
Обращались тогда малолетние цветочные головки к своим менторам и, сморщившись точно таким же образом, как дитя, когда негодует на неправду злых взрослых, вскрикивали:
– Да как он может это говорить? Да и что этот Лука Петров говорит? Говорит: я бы их всех, с одного маху, похерил. И зачем он на сем месте умирать хочет, когда у нас тут беспрестанная жизнь и веселье, говор и смех…
– Да тише! – повторяли статуи. – Он ничего не может сделать, он чучело и теперь, – вы не смотрите, что он живой, – поэтому он ни вас похерить, ни сам умереть на сем месте не может…
А на самой верхней площадке остановился между тем могучий геркулес и, повертывая коренастым дубом, заговорил оттуда статуям:
– Ну что вы говорите: он не может умереть на сем месте? Дуну на него – и кончено! Но я, убивавший гидр и львов, не хочу марать рук об гадину.
– Я – гадина? Я г-ггад-дина р-рази? А ты х-хто такой? – вдруг раздается по сеням, каковой голос даже слышит сильно подвыпивший швейцар из отставных вахмистров, покойно дремлющий внизу.
Пекарня в Москве. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция
И молившей толпой окружили героя старинные богини, – упали они пред ним на колени, ярким светом небесных звезд горевшие очи свои одним общим даром все они обратили к нему и замолились со злобным, беспощадным плачем:
– Убей его, убей! Он сказал сейчас: таких срамниц баб, какими мы будто бы были, по ихним местам и не найдешь теперича! Разве мы не знаем, какие бабы-то у них?..
– А бабы у них известно какие… – шепнул из-за куста козлоногий сатир. – Бабы у них главным образом насчет Суконных бань{290}…
– К-ка-а-к? Суконных бань? – неистово взревел голос, который слышен был выпившему швейцару. – Ты р-р-ра-ази мою жену в Суконных банях з-за-астал?..
– Застал! – утвердительно ответил сатир, скрываясь в куст, не забывши, однако же, подмигнуть своими косыми глазами и брыкнуть косолапыми ногами.
– Вр-р-решь, под-длец! Я на тебя в часть завтра. Пять золотых и голову сахару Иван Фомичу снесу.
– Ну и неси! – послышалось насмешливое слово из тайной чащи девственного леса Древней Эллады.
– И отнесу! А теперь вот тебе, подлец! Тьфу! Прямо вот в рожу тебе, козел ты эдакой, чер-р-рт, получай…
– Ах, Лука Петрович! Зачем же это вы завсегда, как придете к нам, на картинки плюетесь? – сказал Луке Петровичу внезапно соскочивший сверху лакей. – Да еще и пальчиком изволите размазывать. Это нехорошо-с, – хозяин за это взыскивают.
– Молчи, чертов сын! Дома хозяин?
– Дома-с, – пожалуйте-с.
– Сымай шубу, а разговоров со мной не разговаривать. Терпеть не люблю!
– Вот черт-то! – подивился лакей втихомолку, когда Лука Петрович ввалился в залу. – Ведь вот и богатый купец, а не пьяным его ни разу не видал. Приказчик у них живет, седой весь, как леший, а и тот говорит, что как он, после смерти родителя, запил на пятнадцатом году, так ни разу и не проснулся. Вот какой черт-народ по белому свету расхаживает. Даже чудно ей-богу!..
IV
Наконец все, кого ждал Переметчиков, собрались в его великолепном графском доме. Честного народа сошлось много, и беседа, следовательно, завязалась не кое-какая, а все, как говорится, и по Писанию, и из-под политики.
Крестились все сначала страсть как, когда всенощное бдение шло. Протяжные, умиленные вздохи молившихся время от времени перебивал тихенький шепот про нового дьякона, голос которого, так сказать, передвигал с места на место колонны зала и спугивал засевшую на углах потолка паутину. Тихо спалзывали с верха ее серодымчатые, ленивые волны и, встретивши на дороге здоровое и жаркое людское дыхание, они совсем неподвижно останавливались в воздухе, как бы раздумывая, на чью бы это им лучше голову сесть, чьи волосы, опутанные их досаждающим венцом, с большим негодованием встряхнутся на узком лбу и потом, упавши на широкий нос и толстые губы, заставят эти губы с большим остервенением вскрикнуть:
– О, штоб тебе! Вот искушение, сейчас умереть! Чуть было не ругнулся я.
– Каков голосок? – тихо шептал кто-то за колонной. – Органистый голосок!
– Да-с, ничего! – отвечал другой шепот. – Приобрели украшение. Крестовоздвиженские прихожане к себе уж переманивали, да нет, не пошел. Я, говорит, и здесь взыскан…
– Гм! Это хорошо! Значит, хороший он человек! Без фанаберии, значит, человек. Ну, да будет: не перебивай ты меня разговорами, дай помолиться-то…
Наконец тройное заключительное: Господи помилуй раскатисто заключило службу. Вместе с легкокрылыми ангелами, неизменно присутствующими на молитвах, улетел в небо звонкий дискант, замерли тенора и под конечное гудение грозной октавы, долго еще плававшей по зале вместе с благовонными волнами ладана, суетливо тронулся доселе смирно стоявший люд, заговорил, зашаркал…
Батюшка, со сверкающим крестом в руках, поздравлял хозяина с благодатью. Хозяин кланялся и на тихую речь батюшки громким и крайне безнадежным голосом кричал:
– Ах, батюшка! Надежда моя одна на всевидящее око и на вас! Иов я в жизни моей, как есть Иов{291}. Превзыдоша главу мою… но я не ропщу, я знаю, я умею, я всегда готов… Живу только молитвой, беседой, добродетелью… О Боже!.. Милости прошу садиться.
В углу хозяйский сын и какой-то седой купец, в длинном сюртуке, в дутых козловых сапогах, оба страшные охотники до церковного пения, дружески разговаривали с регентом, вокруг которого толпились серьезные лица басов, красавцы тенора и хорошенькие альты и дисканты.
– Вот как я вам скажу, господа, – говорил регент. – Ежели вы мне сейчас сторублевую в руки, так наплюйте мне в лицо, ежели я в следующее воскресенье не представлю вам этого Ва-вилу Петрова. Я уже с ним говорил. «Будьте спокойны, говорит, – я, говорит, с моим превеликим удовольствием». Вот! господа, прямо скажу: уж разуважили бы вас тогда, потому баса такого и на заказ не сделаешь. В Туле он однажды Апостола читал: как раз около него предводительская дочь стояла – девица. «Вел, вел я, говорит, все, говорит, ровно веду: ни вниз, ни вверх, а сам думаю: постой, мол, погляжу я, какая ты на расправу; да как, говорит, полысну с маху, как, этта, гр-р-ромыхну, – барышня моя цоп на пол. Словно бы ее пулей прострелило! Три дня после, сказывают, летаргией одержима была! Ей-богу!»
– Три дни! Тсс! – прошептал купец, медленно помахивая седой, подстриженной в скобку, головой.
– Л-ллетаргией! Вон он как ее чесанул! – каким-то всхлипывающим голосом восторгался хозяйский сын, жмуря глаза и потирая руки.
– Где же тут против нас устоять крестовоздвиженским, когда мы эдакое сокровище к себе притянем! – продолжал регент. – Да еще он что говорил: «Я, говорит, г-н регент, когда в Туле был, так хоша у меня и был верха, но не такой, каким, говорит, теперича я снабжден». Ведь он из усманскнх мещан, так когда это он чувства свои примется выражать – потеха! «Гущины, сказывает, такой не имел, потому пил в те времена самую малость». Ну, и скажу вам, – при этом регент поцеловал кончики своих пальцев, – и приобрел же он в этой Москве гущину, потому для всякого интересно послушать, как это он, словно буря, голосом своим деревья ломает…