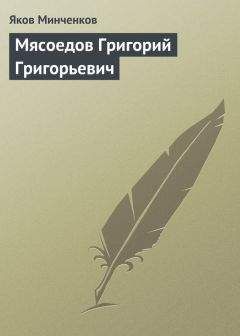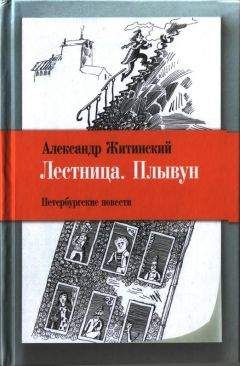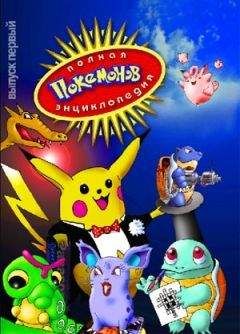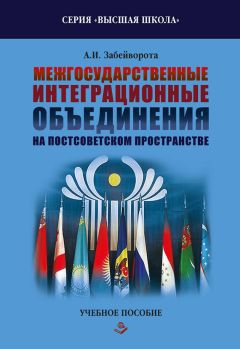Александр Житинский - Дневник maccolita. Онлайн-дневники 2001–2012 гг.
Это произошло на Гетеборгской книжной ярмарке в сентябре 1993 года. Была объявлена публичная дискуссия между двумя Нобелевскими лауреатами – Иосифом Бродским и Дереком Уолкоттом. Я как раз тогда обзавелся видеокамерой и пошел в конференц-зал снимать Бродского.
Запись некачественная, снимал с рук, но кое-что видно и слышно. Сначала идет дискуссия на английском (не вся), потом Бродский дает автографы и беседует со слушателями. Потом я задаю ему вопрос, не хочет ли он сказать что-нибудь своим друзьям Уфлянду и Кушнеру. И Бродский говорит несколько фраз в камеру.
Затем его уводят снимать шведские телевизионщики, а я снимаю этот процесс издали.
Вот, собственно, и всё.
Саша Башлачёв
27 мая
Саше Башлачёву 50. Представить это так же трудно, как и его самого в нашем времени.
Сказать ничего нового про него сегодня я не могу, все сказано мною в статье двадцатилетней давности – предисловии к первой книжке Саши «Посошок».
Когда это случилось, я был в Москве, писал сценарий для «Мосфильма». Как вдруг мне позвонили и сказали, что покончил с собой Саша Башлачев. Эта смерть стала первой с момента, когда рок вышел из подполья и стремительно завоевывал площадки, средства массовой информации и новых слушателей.
Казалось бы, петь и петь, выступать на стадионах, сочинять новые песни, зарабатывать деньги, в конце концов…
Самый чуткий ушел первым. Ушел сам. Дальше последовала череда символических смертей, которые как бы подвели черту под старым любительским рок-н-роллом и знаменовали наступление нового, коммерческого.
Этот выпуск музыкального эпистолярия не появился на страницах журнала «Аврора», текст был написан позже и стал предисловием к книжке стихов Саши Башлачева «Посошок», которую я составил по предложению одного издательства. Она стала первым изданием стихов Башлачева.
Ниже приводится текст этой статьи.
СЕМЬ КРУГОВ БЕСПОКОЙНОГО ЛАДАО творчестве А. БашлачеваСаша Башлачев родился в конце первой «оттепели» и ушел от нас в начале второй. Вся его короткая жизнь уместилась между этими странными суматошными всплесками российского демократизма и целиком пришлась на время, которое позже с ненужной пышностью назвали «эпохой застоя». Это было время медленного тридцатилетнего раздумья, трагического осмысления великой иллюзии или великого обмана – и с этой точки зрения эпоху никак нельзя назвать «застойной». Духовное движение было скрытым, глубинным, но более мощным, чем поверхностная митинговая подвижка умов. В недрах этого тягостного времени выплавились дивные образцы литературы и искусства – достаточно назвать Бродского, Тарковского, Неизвестного, Шукшина, Любимова, Высоцкого, Окуджаву. В его глубинах возник огонек русского рок-н-ролла с его повышенным вниманием к социальным проблемам – да что там говорить! – сейчас с достоверноствю выясняется, что период экономического застоя и загнивания общественной жизни обладал по крайней мере тремя преимуществами в художественном, творческом смысле перед сменившим его революционным подъемом: стабильностью проблем и жизненного уклада, позволяющей разглядеть то и другое с величайшей степенью достоверности; запасом времени, терпения и внимания, чтобы осмыслить жизнь во всей полноте и довести результаты размышлений до художественного воплощения; и, наконец, уверенностью в завтрашнем дне. Замечу, что уверенность эта, вопреки смыслу затертого идеологического клише, была обратного толка – «завтра будет так же плохо, как и сегодня», но даже такой пессимистический прогноз давал душе художника больше покоя, чем нынешняя чересполосица надежд и тревог.
Башлачев не успел заработать себе официального титула и полного имени – «поэт Александр Башлачев»; даже сейчас, после его гибели, его удобнее называть по-дружески Сашей или же прозвищем Саш-Баш. Это помогает доверительности материалов о Башлачеве, но мешает обрести необходимую дистанцию, чтобы правильно оценить это явление природы. Я не оговорился. Башлачев для меня ближе всего к явлению природы или, если угодно, к явлению русского духа, ибо любая прописка по жанру и ведомству выглядит подозрительно. Поэт? Музыкант? Бард? Рокер? Все это применимо к Башлачеву и все более или менее неточно. Ближе всего, конечно, слово «поэт», но в его изначальном, природном значении, смыкающемся с игрой стихий (в отличие от игры в стихи), а не в значении литературном, предполагающем знакомство со стихотворной традицией и принадлежность поэтической школе. Башлачева, как и Высоцкого, вряд ли можно назвать «мастером стиха», хотя у того и другого встречаются строки, которые не снились любому мастеру, – строки-прозрения, строки-предвидения.
Сам Саша, как мне кажется, считал себя поэтом. Конечно, называть себя так – нескромно, но в душе примерять к себе это звание необходимо тому, кто ответственно относится к своему дару. А Башлачев относился ответственно: написано им немного, но среди оставшихся сочинений практически нет «пустячков». Он почти всегда пытался петь о главном. В стихотворении-песне «На жизнь поэтов» он сказал о самом сущностном в поэтической судьбе, в призвании поэта. Там поразительно много точнейших определений поэтического творчества, горестное предвидение своей собственной судьбы и судьбы своих стихов: «Дай Бог им пройти семь кругов беспокойного лада по чистым листам, где до времени – все по устам…» И далее эти «семь кругов» беспокойного поэтического лада варьируются в песне, обретая очертания символического образа, зыбкого вместилища духа.
По каким же кругам ходила поэзия Башлачева, прежде чем уйти на «восьмой» круг – круг бессмертия?
Внешний круг земной судьбы обозначен двумя датами: 27 мая 1960 года Саша Башлачев родился в Череповце, 17 февраля 1988 года он покончил с собой в Ленинграде, выбросившись из окна. В неполном двадцативосьмилетнем промежутке уместились школа, факультет журналистики Свердловского университета, работа в районной череповецкой газете «Коммунист», сочинение стихов и песен – сначала для череповецкой группы «Рок-сентябрь», потом «для себя», а последние три года – странная, бесприютная жизнь бродячего музыканта, путешествующего с гитарой по городам и весям страны, поющего свои песни на домашних концертах, изредка – в залах и на фестивалях. Вошли в этот круг и женитьба в Ленинграде, и последняя, самая сильная любовь к женщине, подарившей ему сына Егора, которого Саше увидеть так и не довелось.
Круг судьбы, ее конкретные приметы весьма скупо отражены в Сашиных стихах. Мелькнет иногда «поезд Свердловск – Ленинград», или появятся на лесенке его любимая Настенька с друзьями «Митенькой и Сереженькой», или блеснет под фонарем свинцовая вода Фонтанки в городе, который стал для него родным, чью болезненную и высокую душу Башлачев ощутил так, будто был коренным петербуржцем. «В Москве, может быть, и можно жить. А в Ленинграде стоит жить», – сказал Саша в одном из интервью, которыми его совсем не баловали.