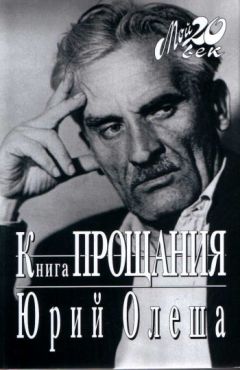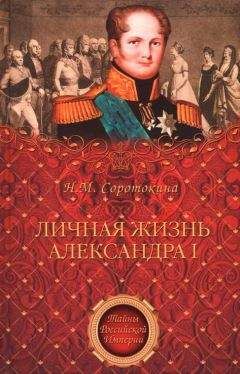Юрий Олеша - Книга прощания
Как некоторые высокие достижения техники или медицины определяются словом «чудо» и есть поэтому чудеса техники или медицины, так могут быть определяемы тем самым же словом и высшие достижения литературы — таким образом, можем мы говорить и о чудесах литературы.
К чудесам литературы относится, мне кажется, то описание неба над головой идущих ночью в ущелье солдат, которое есть в одном из кавказских рассказов Толстого. Там сказано, что та узкая извилистая полоска ночного неба, полная звезд, которую видели над собой шедшие между двух отвесных стен ущелья солдаты, была похожа на реку. Она текла над головами солдат, как река, эта темная, мерцающая бесконечностью звезд полоска.
Стоило бы подобрать сотню таких чудес. Зачем? Чтоб показать людям, как умели думать и видеть другие люди. Зачем это показывать? Чтобы и те, кто не умеет так думать и видеть, все же уважали себя в эту минуту, понимая, что поскольку они тоже люди, то они способны на многое.
Одно из поразительных, если можно так выразиться, обстоятельств «Войны и мира» — это то, что Пьер Безухов, никому не открывавший своей тайны (любовь к Наташе), открывает эту тайну пьяному и пошлому оккупанту в горящей Москве…
Именно так: они сидят в чужом доме, пьют вино, и Пьер рассказывает этому майору Рамбалю о своей любви. Майор, как ни пошл, ни пьян, как ни груб (в результате того, что в данном случае еще и завоеватель), относится с пониманием к тому, что говорит Пьер, понимает, что Пьер говорит именно о чистой любви.
— Да, да, — восклицает он, — ле нюаж! Облака!
Если бы я делал сценарий для фильма «Война и мир», я начал бы с этой сцены: Рамбаль и Пьер в чужом доме — начал бы с этого признания Пьера. Это сократило бы роман почти вдвое. Эти «нюаж» и были бы монтажным поводом для краткого изображения того, что было до 1812 года, изображения Наташи и всего, что связано с ней.
Мне кажется, что Толстой сделал неправильно, избрав героем Левина как он есть, с его мудрствованиями, антигосударственностью, поисками правды, и не сделав его писателем. Получается, что это просто упрямый человек, шалун, анфан-террибль, кем, кстати говоря, был бы и сам Толстой, не будь он писателем. Иногда Левин кажется самовлюбленным, иногда просто глупым… Все это оттого, что он не писатель. Кто же он в самом деле, если не писатель? Такой особенный помещик? Что же это за такой особенный помещик? Если он умен, философ, видит зло общества, то почему же он не с революционерами, не с Чернышевским — почему он, видите ли, против передового (а ведь Левин, честно говоря, не очень сочувствует освобождению крестьян)? Если он умен, то почему же он не писатель, не Лев Толстой? Кто же он? Чудак? Просто чудак?
Считается, что Лев Толстой не признавал Шекспира.
Однако трудно допустить, чтобы это было так на самом деле.
Толстой — авторитет, которому веришь всем нутром. В данном случае эта вера исчезает. Я не верю Толстому, когда он говорит: «Я всегда живо чувствовал красоты поэзии во всех ее формах: почему же признанные всем миром за гениальные художественные произведения сочинения Шекспира не только не нравились мне, но были мне отвратительны»[265].
Читая это, я не верю, что Толстой говорит правду. Он нападает на неестественность языка Шекспира, — и тут же, приступая к изложению «Короля Лира», любовно цитирует шекспировское выражение о том, что Гонерилья любит отца больше зрения, больше пространства, больше свободы, любит так, что это мешает ей дышать.
Шекспир не мог не нравиться Толстому.
Его раздражает нелепость, как он выражается, драм Шекспира. В то же время он восхищается Пушкиным, у которого есть такая же неестественность, — и погоня Медного Всадника за чиновником Евгением не кажется ему нелепостью.
Между тем «Медный всадник» мог бы, если бы Толстой был последовательным, показаться ему таким же нелепым.
Толстой хотел ниспровергнуть Шекспира по тем же причинам, по которым он хотел ниспровергнуть Наполеона.
Эта причина заложена в человеческом характере Толстого.
В дневниках Толстого есть свидетельства о том, что главным своим свойством он считал стремление к славе.
Может ли в мире существовать какая-нибудь личность, которая была бы значительней меня? Может ли в мире существовать какая-либо идея, не высказанная мною?
Не может.
Толстой боролся с Наполеоном, с Шекспиром, с Искусством, с христианством. «Крейцерова соната» призывает людей к отказу от размножения — т. е. Толстой боролся с Жизнью!
Зачем я все это пишу? Чистая графомания!
Jl.Толстой говорил, что самое лучшее у Пушкина — его проза. Многое, в конце концов, не более как общие места. Тот же Толстой блестяще разоблачил Шекспира, — и немалая правота есть в его мыслях, — это восстание против общих мест: «Шекспир гений» — вот так же можно, желая отнестись к Пушкину зло, сказать, что проза Пушкина есть подражание Мериме. Особенно маленькие рассказы, и «Пиковая дама», и даже «Капитанская дочка», где Гринев разговаривает с Пугачевым по-французски.
Когда читаешь свидетельства тех, кто состоял при Толстом, всегда удивляешься одному обстоятельству: с Толстым почти не говорили о его работе как о работе писателя. Никто не поднимал совместно с ним обсуждения приемов его мастерства.
Я имею в виду Толстого в старости. Того Толстого, которого снимали кинематографом. В ту эпоху Толстой, на мой взгляд, достиг высшего мастерства. Это было тогда, когда уже начинали работать футуристы.
Кротость довольно часто является темой литературы. У Флобера — доброе сердце служанки, преданной господам. У Мопассана — целый ряд рассказов на эту тему. Как, например, была влюблена в кулака, собственника, живодера и хама, крестьянка, жившая с ним по соседству, и как, всегда презираемая им, умирая, завещала ему все имущество. И как он случайно узнал об этом, а узнав, поинтересовался, завещала ли она ему и повозку.
Почему так часто пишут о кротости? Читатель, между прочим, любит всплакнуть. Относятся ли к рассказам о кротости так же и великолепные, прекрасные тургеневские «Живые мощи»? Да, пожалуй, и о кротости, но главное в рассказе — религиозное смирение, радость мученичества.
Что за рассказ! Весь в том колорите солнца, смешанного с темнотой помещения, который и есть, так сказать, лето; весь в описаниях летних вещей и обстоятельств — меда, ос, лучей, лесных животных. Там и сон, о котором рассказывает Лукерья, летний — смерть с желтыми глазами появляется на ярмарке. Но лучше всего в рассказе — это внезапная радость Лукерьи, бывшей, кстати говоря, красавицы, когда она вдруг вспоминает, как вбежал к ней, в мученическую ее келью, заяц. Как сел на задние лапы, посидел, поглядывая на Лукерью…