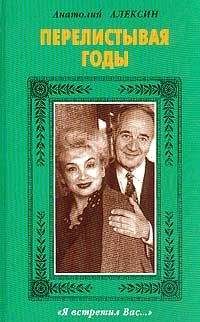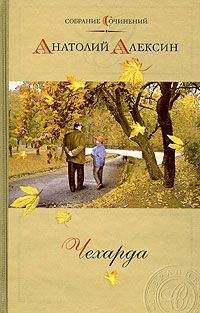Анатолий Алексин - Перелистывая годы
Да, Декларация прав человека провозглашает: каждый волен отправиться, куда пожелает, вернуться в страну, где обрел жизнь, и снова уехать. А, во-вторых, насчет «ненужности» здесь, на Святой земле, русского писателя… Менее чем за четыре года изданы четыре моих книги. О них писали в газетах, журналах, говорили по радио и телевидению. Не перестаю утверждать: писатель живет ради читателей. И те, ради кого я живу, отвечают взаимностью и в России, и тут: присылают письма, приглашают на литературные встречи, где я общаюсь (подчеркиваю!) не только с израильтянами, но и с гостями из Москвы, Петербурга, Киева… Как те встречи проходят? Весьма не склонная к преувеличениям журналистка Виктория Мунблит пишет об этом так: «Читатели Алексина по-прежнему любят. Их по-прежнему интересуют его книги, а сам факт его присутствия в этой стране каким-то образом легитимирует их собственную тутошнюю жизнь. Русскоязычный читатель в Израиле вообще благодарный: здесь на дворе вечные российские восьмидесятые, когда сенсацией мог стать философский очерк, когда из прессы что-то вырезалось и пряталось в папки и горячо обсуждалось – на тех же кухнях. Читатели Алексина любят: попробуйте пробиться на его встречи с ними, когда нет мест, когда стоят в проходах, висят на люстрах и требуют автографа – истово, задыхаясь и держа за пуговицу испуганного писателя».
Расхвастался? Нескромно такое цитировать? Согласен. И никогда б не посмел, если бы не предположение, что русский писатель здесь «никому не нужен». А нужен ли он, живущий тут, там, где родился? Могу ответить лишь примерами из своей жизни… Не потому, что «своя рубашка ближе к телу», а потому, что факты своей биографии точнее известны. Почти все новеллы тель-авивского цикла, посвященные отнюдь не специфически еврейским проблемам, опубликованы и в Москве. Трогательное внимание проявили ко мне на своих авторитетных страницах «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Московские новости», журналы «Знамя», «Обозреватель», «Детская литература»… Это для меня бесценно. Потому что я – русский писатель. И буду им до последнего часа. Не обделяют меня вниманием и господа шовинисты. Бог с ними… А впрочем, пусть Бог будет с нами, их презирающими!
В день, когда Таня вынесла сложнейшую операцию на позвоночнике, нам позвонили сорок два друга. «Никому не нужны?»
Как бы продолжая отвечать и на этот вопрос, исписываю новые страницы своего блокнота…
Недавно, совсем недавно он сидел вот здесь, на этом диване… Размышлял о жизни, не сосредоточиваясь на себе. Хотя тяжкое дыхание, словно пробивавшееся сквозь преграду, свидетельствовало о том, что на физическом здоровье своем он был обязан сосредоточиться. Был обязан, но только отмахивался от наших тревог. Быть может, они казались ему чрезмерными, назойливыми. Однако мы с женой вынудили его смириться с мыслью об операции. И непременно на Святой земле. Председатель Федерации писателей государства Израиль Ефрем Баух вскоре начал действовать… Но Юра Левитанский не дождался. «И от судеб защиты нет…» Часто обращался он к этой пушкинской мудрости, не думая, полагаю, что она так поспешно и ему явит свою неотвратимость. А ведь, кажется, позавчера сидел на этом диване… И был обеспокоен судьбою поэзии, интеллигенции и даже судьбою века, всего человечества. Но не было ни в одной его фразе возвышенной нарочитости. «Искусство – это чувство меры», – как-то сказал Пастернак.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
каждый выбирает для себя.
Кажется, строки эти могли бы стать эпиграфом к посмертной книге Юрия Левитанского. Но выбрать такой всеохватывающий эпиграф – если он вообще нужен! – вправе был только сам выдающийся автор стихотворений, собранных в книге «Меж двух небес». То, что выдающийся, – для меня несомненно. «Потерявши плачем…» Однако и точнее осознаем!
На вечере в тель-авивском клубе писателей Юрий Левитанский не «взошел в президиум», а устало преодолевая ступени, поднялся на сцену и сел в последнем, кажется, третьем ряду. Иные несут свою скромность впереди, словно транспарант: «Смотрите, завидуйте: я…» Он ничего не демонстрировал, а всюду и всегда был таким, каким был. Так ведут себя не все – даже выдающиеся! – мастера слова. Случается, они в жизни вовсе не следуют тому, что исповедуют в сочинениях. Главное – это, безусловно, сочинения: именно они приходят к читателям, переживают своих творцов (если те творцы!), пересекают рубежи, а сами мастера общаются прежде всего с членами семьи, со знакомыми и друзьями. Да и вообще «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»… Но если поэт и без требований Аполлона являет собой личность масштабную, это достойно преклонения. Я восхищался Юрием Левитанским. Хотя на том, посвященном ему вечере в клубе писателей старательно избегал велеречивости, пышных прилагательных: не то, чтобы он их продуманно не терпел, но они причиняли ему страдания – не только душевные, но и, казалось, физические. Достоинства, если они подлинные, не нуждаются в словесном, а тем более высокопарном утверждении. Повторюсь: на сцену он поднялся утомленно. Да, он устал. Но все же в один из дней нашел силы приехать к нам с Таней в гости.
Когда мы «перелистывали» давние и недавние годы у нас на кухне (традиционное место самых значительных встреч!), Юра дал понять, что, хоть, по слову другого поэта, «душа обязана трудиться и день и ночь», но столь же непрерывные борения с несправедливостью людской очень трудны: надрывается сердце.
Поздним – и будто позавчерашним! – вечером мы с Юрой вышли на улицу, поймали такси. Обнялись и простились до скорой встречи. Но тоже оказалось, что навсегда…
На том же диване – для самых любимых гостей, для тех, которые «служат пророку»! – тоже не восседал, а по-домашнему с нами обедал Евгений Евтушенко. А потом – спрашивал, отвечал, чуть-чуть, как и Юрий Левитанский, пригнувшись под грузом размышлений и проблем.
По планете шествует, обволакивая земной шар гениальной музыкой, Год Шостаковича. И повсюду звучит, сотрясая души, Тринадцатая симфония на стихи Евгения Евтушенко. Вкус у Дмитрия Дмитриевича, естественно, был безупречный – он мог соединить свое искусство только с поэзией подлинной.
…Многие – ох, многие! – воспринимают чужой успех, как большое личное горе (в который раз талдычу об этом!). Гельвеций был убежден, что из всех человеческих страстей зависть есть страсть самая низкая: «под ее знаменем шествуют коварство, предательство и интриги». Зависть – пусть на время, не навсегда! – перекрывала дорогу открытиям, опережавшим века, освистывала бессмертные творения, доводила до отчаяния, а то и укладывала в могилу гениев… И она же, возбуждая осатанелостью своей непримиримый протест, лишь укрепляла – как ни поразительно! – ненавидимые ею пьедесталы.