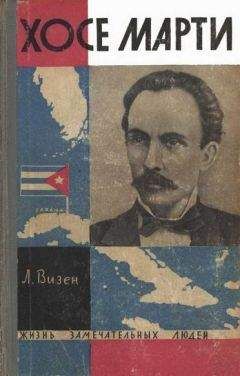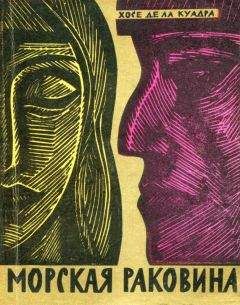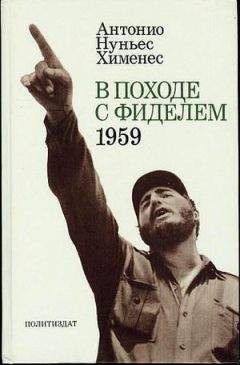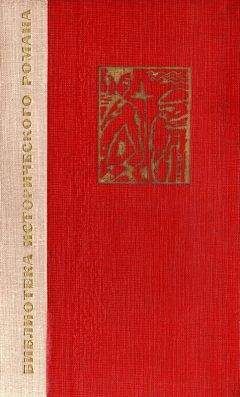Владимир Кораблинов - Жизнь Никитина
Жизнь сократилась еще на одну бессонную ночь.
Иван Савич забылся, медленно пошел ко дну глубокого безмолвного омута. Спящий, он сохранял все ту же позу – сидел, привалясь к подушкам, с взлохмаченной, безжизненно поникшей к плечу головой.
Осторожно, воровски озираясь, вошел отец. Остановился в двери; насупив брови, внимательно оглядел комнату, спящего сына; покачал головой, увидев раскиданные на полу возле дивана клочки бумаги. «Завещание пишет, – подумал хмуро, – никак не распланует… все рвет, все рвет…»
Не раз видя, как Анюта выметала из комнаты на мелкие клочки изорванную бумагу, старик догадывался, что Иван Савич составляет завещание, и очень беспокоился – не будет ли обделен. С откровенной неприязнью поглядывал на де-Пуле, подозревая его в том, что он что-то нашептывает сыну против него, против отца, родившего Ивана Савича, вскормившего, давшего ему образование. «Хлюст, хлюст! – бормотал Савва вслед Михаилу Федорычу. – Мамзель-стрекозель! Откуда тебя, черта жидконогого, принесло? Каким ветром надуло? Мысленно ли дело! Припрется, рассядется с Иван Савичем – шу-шу-шу… А кой взойдешь послушать – „Батенька, оставьте нас с Михаилом Федорычем, нам надо поговорить!“ Ну, ладно, говорите, шушукайтеся… Но ежели, Иван Савич, подлец, обойдешь в завещании…»
И разобидясь, чуть не плача от жалости к себе и от воображаемой сыновней несправедливости, уходил, заливал обиду; провонявший сивухой и кабацким дымом, вечером кой-как приволакивался ко двору, скандалил, выкладывал Ивану Савичу начистоту, как он судит о его неблагодарности, грозился проклятием…
А наутро, проспавшись, вспоминал и сокрушался, что ни за что, ни про что обидел сына, спьяну наговорил лишнего. Но тут же и ожесточался: «Верно, знаю – нехорош во хмелю, драчлив, буянлив, а нешто не обидно? Намедни так-то, аккурат двадцать шестого числа, на Иван Савичевы именины, с утра не пил, проклятую, соблюдал себя, приоделся, припарадился, зашел поздравить, посидеть вечерок по-семейному, – а что в концы концах вышло? Обратно этот шут гороховый, мамзель-стрекозель, так обернул дело, что страм слухать было! Да и обидо же, на кого не доведись… А с чего началось? Он, потаскун этот, прости господи, Бараньи ножки, зачал насчет чего заводить: вам-де, Иван Савич, дорогой, любезной, спокой надобен, тишина… вы-де сами себя убиваете. А того чисто муха какая укусила – вскочил, трясется: „Я, шумит, сам себя убиваю?! Я? Не-ет, вон мой убивец!“ Это на меня-то, мати пречистая богородица! Ну, не обидно ль от свово дитю такая поношение? Эх, Иван Савич, Иван Савич! Грех тебе этак-то на родителя… право, грех!»
Утерев грязным скомканным платочком выступившую слезу, Савва поближе подкрался к спящему сыну, вгляделся, прислушался: спит. Кряхтя, опустился на колени, собрал клочки бумаги, потихоньку вышел из комнаты и, запершись у себя, долго складывал обрывки – один к одному, пытался постигнуть тайну написанного. Немыслимо трудно было, конечно, составить все клочки воедино, но кое-какие все-таки сложить удалось, и в порванной бумаге такая оказалась чепуха, что и говорить совестно, например:
«…не yстану повторять, что в жиз
любил одну лишь женщ
и эта женщина есть
ношу с собой в моги
ветный обра…»
Или
«прошу, забудьте обо мне и
веки знайте, я не хо
чтобы темь печали омрача
рекрасное лицо»
«Умный же человек, – сердито подумал Савва, – а гляди, какими глупостями займается!»
И, обувшись, пошел во двор браниться с работником, с Маланьей, с постояльцами, встревать во все дела, всем указывать, всех наставлять, твердо уверенный в том, что все дураки и невежи, один он – умный. Набранившись всласть, наконец хлопнул калиткой и ушел. В доме и на дворе сделалось тихо.
И, странное дело, пока рокотал батенькин хриплый бас, пока со двора неслись крики и посоромщина, Иван Савич спал; но стоило наступить тишине – и сна как не бывало.
Он лежал, прислушиваясь к дневной жизни – к шагам за окном, к далекому дребезгу колес, к скрипу ворот, к ржанью лошади. «Что это – день? Вечер?» – подумал Никитин. Он помнил, что на рассвете голубели, розовели верхние стекла окон, а сейчас они были серые, мутные.
И вдруг глухо зашумело по крыше, дождевые капли застучали, зашлепали. Кончилась погожая осень, октябрь поворачивал на ненастье, на холода.
Перед обедом пришли де-Пуле и монах.
– Что там на улице? – спросил Никитин. – Льет?
– Разверзлись хляби небесные, – пропел Арсений.
Анюта принесла из аптеки новую микстуру. Налив из синего флакона в тяжелую, со стершейся амальгамой ложку, подала питье. Иван Савич поморщился, но выпил послушно.
– Ах, как надоело! – прошептал он. – Ведь все равно ни к чему. Много, коли два-три дня осталось…
– Не говорите так, – сказал Арсений, – ибо таковое самовластное предопределение судьбы есть грех великий…
– Ну, что там – грех! – слабо отмахнулся Иван Савич. – Если б я не чувствовал…
– А я вам поклоны принес, – перебил его де-Пуле, – от Николая Иваныча, от Надежды Аполлоновны, от Сонечки…
– Да? – равнодушно отозвался Иван Савич. – Ну, как он? Какие новости в Питере?
Михаил Федорыч пустился в рассказы о новостях литературных, об университетских беспорядках, об арестах питерских студентов, среди которых есть и воронежцы.
– Николай Иваныч двух упоминает, да вот фамилии я запамятовал, к сожалению…. Сель… Селенко?
– Сильченко? – насторожился Никитин.
– А! Да, да… кажется, именно так: Сильченко. И другой – на «т» как-то.
– Тростянский, – сказал Иван Савич. – Раз на «т» – Тростянский, больше некому. – Ах, господи, вот несчастье-то! Такие отличные молодые люди…
– Гордыня обуяла, – сладчайше пропел Арсений. – Все тщимся непостижимое постигнуть.
– Помилуйте! – Мишель возмущенно повысил голос. – Да знаете ли, что эти головорезы затевали? У них там какой-то кружок образовался, они наследника, – голос упал до шепота, – самого наследника похитить собирались из гатчинского дворца… чтобы какие-то наглые предъявить государю требования!
– Какой вздор! – устало сказал Никитин. – И как вам не стыдно повторять подобные небылицы…
Михаил Федорыч обиделся, дернул плечиком, замолчал.
– А все – атеизм, – вздохнул Арсений. – Неверие, отрицание, матерьялизмы. Безумство! – значительно помолчав, изрек, как бы подведя итоговую черту, и, потупившись, занялся длиннейшими четками.
Они посидели еще немного и ушли, оставив после себя тошноватый запах ладана и гвоздички.
Вечером Иван Савич велел Анюте принести таз с водой и подать свечу. Вытащив из-под подушки пачку Наташиных писем, принялся их жечь. Один за другим вспыхивали голубенькие листочки; черные хлопья сгоревшей бумаги с легким шипением падали в воду.