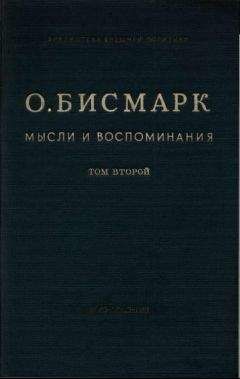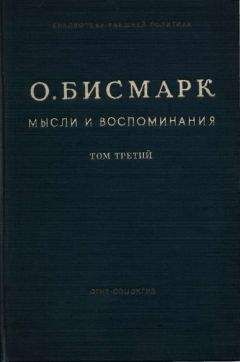Отто Бисмарк - Мысли и воспоминания Том I
Не подлежит сомнению, что близкие отношения с обеими западными державами содействовали решению императора Франца-Иосифа предпринять 2 августа выпад против Пруссии при помощи съезда князей[633]. Он, несомненно, впал при этом в заблуждение, не зная, что императору Наполеону уже надоели польские дела и что он подумывал о том, как бы приличным образом совершить отступление. Граф Гольц писал мне 31 августа:
«Из отправленной мною сегодня почты вы увидите, что я здесь с Цезарем[634] единодушен (действительно, он никогда еще, даже в самом начале моей миссии, не был со мной так любезен и откровенен, как в этот раз), что Австрия своим съездом князей оказала нам, — поскольку дело касается наших отношений с Францией, — большую услугу; нужно лишь мирно уладить польские разногласия, чтобы благодаря одновременному отсутствию Меттерниха и последовавшему сегодня отъезду его высочайшей приятельницы[635] вновь вернуться к такому политическому положению, при котором мы могли бы спокойно смотреть навстречу грядущим событиям.
Я не мог пойти навстречу намекам императора относительно польских дел в той степени, как желал бы того. Мне казалось, он ожидал предложения о посредничестве; однако заявления короля удержали меня. Во всяком случае, мне кажется, надо ковать железо, пока оно горячо; притязания императора в настоящее время скромнее чем когда-либо, и надо опасаться, что он вернется снова к более серьезным требованиям,если, скажем, Австрия постарается загладить повышенной уступчивостью в польском вопросе неуклюжесть, допущенную во Франкфурте[636]. Сейчас он хочет лишь с честью выйти из положения, сам признает шесть пунктов негодными и будет поэтому охотно смотреть сквозь пальцы на то, как они будут осуществляться на практике; поэтому его, пожалуй, даже устраивало бы, если он не будет вынужден в слишком обязывающей форме следить за их строгим выполнением. Я боюсь только, что если мы будем подходить к делу так же, как до сих пор, то русские отнимут у нас заслугу улажения [конфликта], сделав без нас то, в чем мы (?) собирались их уговорить (?)[637]. Поездка великого князя[638], который, очевидно, не отозван, внушает мне в этом отношении большие подозрения. А что если император Александр объявит сейчас конституцию и сообщит о том императору Наполеону собственноручным обязывающим письмом? И все же это было бы лучше, нежели продолжение разногласий, но более неблагоприятно для нас, чем если бы мы сказали предварительно императору Наполеону: «Мы готовы это посоветовать; будешь ли ты доволен этим?»
Мы не последовали тому внушению, которое еще двумя неделями ранее было сделано непосредственно генералом Флери одному из членов прусской миссии и сводилось к тому, чтобы посоветовать императору Александру сделать указанный шаг. Так дипломатический поход трех держав затерялся в песках. Весь план графа Гольца казался мне и политически неправильным и недостойным, задуманным скорее в парижском, нежели в нашем духе.
Польский вопрос не представляет для Австрии тех трудностей, которые неразрывно связаны для нас с вопросом о восстановлении независимости Польши ввиду взаимно перекрещивающихся польских и немецких притязаний в Познани и Западной Пруссии и положения Восточной Пруссии. Наше географическое положение и смешение обеих национальностей в восточных провинциях Пруссии, включая Силезию, вынуждает нас оттягивать по возможности постановку польского вопроса; вот почему и в 1863 г. признано было целесообразным не поощрять, а, напротив, предотвращать по мере сил постановку этого вопроса Россией. До 1863 г. было время, когда в Петербурге на основе теорий Велепольского[639] намечали великого князя Константина с его красивой супругой — великая княгиня носила тогда польский костюм — на пост вице-короля Польши, с восстановлением, быть может, польской конституции, предоставленной Александром I и оставшейся формально в силе при старом великом князе Константине[640].
Военная конвенция, заключенная в Петербурге в феврале 1863 г. генералом Густавом фон Альвенслебеном[641], имела для прусской политики скорее дипломатическое, нежели военное значение[642]. Она олицетворяла собой победу, одержанную в кабинете русского царя прусской политикой над польской, которая была представлена Горчаковым, великим князем Константином, Велепольским и другими влиятельными лицами. Достигнутый таким образом результат опирался на непосредственное решение императора вопреки стремлениям министров. Соглашение военно-политического характера, которое заключила Россия с германским противником панславизма против польского «братского племени», нанесло решительный удар намерениям полонизирующей партии при русском дворе; в этом смысле довольно незначительное, с военной точки зрения, соглашение выполнило свою задачу с лихвой. Военной надобности в нем в тот момент не было, русские войска были достаточно сильны, и успехи инсургентов[643] существовали в значительной своей части лишь в весьма иной раз фантастических донесениях, которые заказывались из Парижа, фабриковались в Мысловицах[644], помечались то границей, то театром военных действий, то Варшавой и появлялись сперва в одном берлинском листке, а затем уже обходили европейскую прессу. Конвенция была удачным шахматным ходом, решившим исход партии, которую разыгрывали друг против друга в недрах русского кабинета антипольское монархическое и полонизирующее панславистское влияния.
У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то нельзя сказать чтобы либеральные, но парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым, и ему нравилось представлять себе, как Европа будет восхищаться его красноречием, расточаемым с варшавской или русской трибуны. Предполагалось, что либеральные уступки, которые были бы предоставлены полякам, не могут не распространиться и на русских; конституционно настроенные русские уже по одному этому были друзьями поляков.
В то время как польский вопрос занимал у нас общественное мнение, а конвенция Альвенслебена возбудила непонятное возмущение либералов в ландтаге, мне как-то представили на вечере у кронпринца господина Гинцпетера. Так как он находился в повседневном общении с высочайшими особами и отрекомендовался мне человеком консервативных убеждений, то я вступил с ним в беседу, в которой изложил ему свой взгляд на польский вопрос, ожидая, что он будет иметь время от времени возможность говорить с ними в этом духе. Через несколько дней он написал мне, что госпожа кронпринцесса спрашивала его, о чем я так долго разговаривал с ним. Он все ей рассказал и потом сделал запись своего рассказа, которую переслал мне с просьбой проверить или исправить ее. Я ответил ему, что должен отклонить эту просьбу; если я ее исполню, то после того, что он сам сообщил, получится, как будто я высказался по этому вопросу в письменной форме не ему, а госпоже кронпринцессе, а это я готов делать только устно.