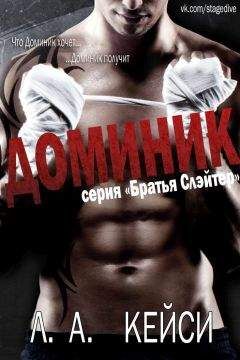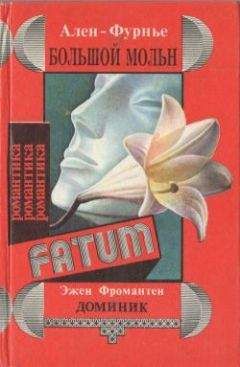Борис Тарасов - Чаадаев
Петр Яковлевич не удовольствовался письменным объяснением происходивших с ним мировоззренческих перемен и встретился лично с С. Г. Строгановым, с которым когда-то вместе служил в лейб-гвардии Гусарском полку. Об их беседе известно со слов Д. В. Давыдова, отвечавшего на запрос Пушкина о положении Чаадаева. «Строганов рассказывал мне весь разговор его с ним от доски до доски. Видя беду неминуемую, он старался свалить всю беду на журналиста и цензуру, на первого потому, что он очаровал его и увлек его к дозволению отдать в печать этот пасквиль, а на последнюю за то, что пропустила оный. Это просто гадко, но что смешно, это скорбь его о том, что скажут о признании его умалишенным его друзья и ученые: Ballanche, Lamennais, Guizot — и какие-то немецкие шустера-метафизики!.. Но полно, если бы не вызвал меня, я бы о нем промолчал, потому что не люблю разочаровывать…»
Автор «Современной песни» не мог обойтись без негодующих и преувеличивающих нот в описании растерянности и раскаяния Петра Яковлевича. Но сами факты, приводимые им, видимо, верны. Они сходны с показаниями Чаадаева 17 ноября 1836 года, которые он давал в связи с ответами Надеждина в III отделении. Петр Яковлевич заявлял, что никогда не имел ни намерения, ни желания публиковать философическое письмо и узнал о его печатании только после одобрения цензуры, когда увидел свое сочинение уже в корректуре. Отрицая факт передачи вызвавшего волнение произведения в руки издателя и удивляясь либеральности цензуры, он подчеркивал неожиданность его широкого обнародования и пытался снять с себя значительную долю ответственности за это, прямо противореча здесь Надеждину, который поведал жандармам изложенную предысторию появления письма. На основные вопросы Чаадаев, сравнительно с показаниями редактора «Телескопа», давал уклончивые ответы.
В конце ноября комиссия, в которую входили Бенкендорф, один из его помощников, Уваров и обер-прокурор Святого синода Протасов, как известно, служивший вместе с Чаадаевым адъютантом у Васильчикова, после изучения протоколов допросов автора, издателя и цензора представила всеподданнейший доклад. Надеждин, говорилось в нем, несмотря на извороты в ответах и преувеличенный монархический образ мыслей, усердно содействовал напечатанию статьи, без чего она не могла бы появиться в свет. Ее появлению способствовали и усилия со стороны сочинителя, заметно старавшегося свалить вину на издателя.
Высочайшая резолюция от 30 ноября 1836 года гласила: «Чаадаева продолжать считать умалишенным и как за таковым иметь медико-полицейский надзор; Надеждина выслать на житье в Усть-Сысольск под присмотр полиции, а Болдырева отставить за нерадение от службы».
В числе пострадавших едва не оказался сотрудник «Телескопа» Белинский, чьи бумаги также были арестованы. Но в них ничего подозрительного не обнаружили. Позднее ходили слухи, что именно он перевел для публикации философическое письмо. Однако личность переводчика хотя и интересовала III отделение, но почему-то оставалась в тени и до сих пор окончательно не установлена. Многие современники не без оснований полагали, что перевод сделан Н. X. Кетчером, часто встречавшимся с Чаадаевым у Левашевой. Например, М. А. Дмитриев утверждает это, ссылаясь на слова Екатерины Гавриловны, более всех осведомленной в делах Петра Яковлевича. Судя же по документам следствия в связи с запрещением журнала «Телескоп», переводчиком мог быть брат Авдотьи Сергеевны Норовой Александр.
Возможно, Кетчер существенно отредактировал перевод Александра Норова, не на шутку перепуганного «чаадаевской историей». Немало волнений испытал в связи с ней и А. И. Тургенев, портрет которого со смелой надписью «без боязни обличаху» оказался в III отделении в числе забранных у Петра Яковлевича бумаг. Об этой надписи жандармам уже давно было известно через тайного осведомителя, камер-юнкера Кашинцова. Сейчас же последний доносил, что Тургенев струсил, узнав об аресте портрета и слухах, приписывавших ему участие в публикации, и «ускакал» в Петербург.
А слухи ходили по Москве самые разные. Говорили, например, что Чаадаева велено посадить в сумасшедший дом, если доктора определят у него расстройство ума, или сослать куда-нибудь подальше от столицы, если признают его здоровым. Не обошел своим вниманием автора философического письма и богатый московский барин и присяжный остроумец С. А. Неелов, который в Английском клубе и на балах по горячим следам сочинял эпиграммы на заметные события в древней столице. «Чаадаеву, которому после Телескопа начали щупать пульс» — так назывались его переходившие из уст в уста двустишия, среди которых были и следующие:
Бежал Чадаев наш к бессмертию галопом,
Но остановлен Телескопом.
Достоин крест иметь, поверьте в этом мне,
Но не на шее — на спине.
Он генерал, и по рассудку
Его определить возможно даже в будку.
Злые строки Неелова — одно из предельных выражений негодования в адрес Петра Яковлевича. «Что же касается до моего положения, — пишет он брату, — то оно теперь состоит в том, что я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть у себя ежедневно господ медиков, ex officio меня навещающих. Один из них, пьяный частный штаб-лекарь, долго ругался надо мною самым наглым образом, но теперь прекратил свои пoceщения, вероятно по предписанию начальства». Жалоба Чаадаева обер-полицмейстеру с угрозой писать выше Бенкендорфу возымела быстрое действие, и «умалишенного» на Басманной вскоре стал посещать давний и некогда лечивший его приятель, доктор Гульковский. Визиты врачей носили формальный, но регулярный характер, и об их исполнении ежемесячно докладывал в Петербург московский военный генерал-губернатор.
Среди слухов, особенно усугублявших подавленное состояние Петра Яковлевича, выделялись двусмысленные разговоры о «даме» и ее взаимоотношениях с автором философического письма. Они вскоре приняли опять-таки «сумасшедший» оборот, когда 17 декабря московское губернское правление освидетельствовало умственные способности Екатерины Дмитриевны Пановой по настоятельной просьбе мужа, пожелавшего поместить свою тридцатидвухлетнюю жену в лечебное заведение Саблера. Когда до «басманного философа» дошли отклики об ответах Пановой на предложенные ей вопросы, он через пристава испросил разрешение явиться к московскому обер-полицмейстеру Цынскому, которому сделал письменно следующее заявление: «Коллежская секретарша Панова во время свидетельствования ее губернским правлением в умственных способностях, рассказывала в присутствии, что она республиканка и что во время войны в 1831 году она молилась за поляков, и тому подобные вздоры говорила»; а потому он опасается, чтобы «по прежним его с Пановой связям правительство не заключило, что он причиною внушения ей подобного рода мыслей, так как философические письма, напечатанные в Телескопе, были писаны к ней».