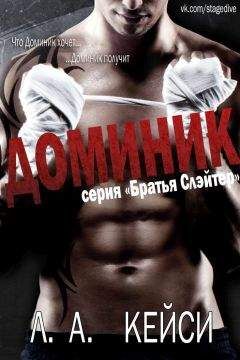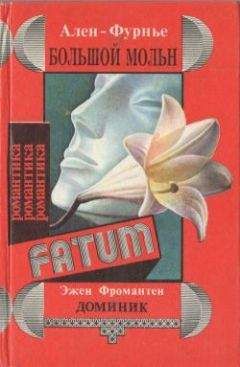Борис Тарасов - Чаадаев
Строганов, по свидетельству Надеждина, пораженный масштабами разросшегося шума, вышел наконец из оцепенения и докладывал министру народного просвещения о необходимости закрыть «Телескоп» с начала следующего года. Не мог не реагировать на происходившее и московский жандармский генерал Перфильев, доносивший 15 октября Бенкендорфу, что чаадаевская статья «произвела в публике много толков и суждений и заслужила по достоинству своему общее негодование, сопровождаемое восклицанием: как позволили ее напечатать?»
Правительство было осведомлено о необычайном журнальном происшествии и по незамедлительной реакции петербуржцев. «Я должна рассказать тебе о том, что занимает все петербургское общество, начиная с литераторов, духовенства и кончая вельможами и модными дамами; это — письмо, которое напечатал Чедаев в «Телескопе»… оно вызвало всеобщее удивление и негодование», — сообщает С. Н. Карамзина брату. «Здесь такой трезвон по гостиным, что ужас», — пишет В. Ф. Одоевский С. П. Шевыреву из северной столицы. «Ужасная суматоха в цензуре и в литературе», — отмечает А. В. Никитенко. Никого нельзя уверить, жалуется москвичам Вяземский, что у автора не было ни преступного замысла, ни явной неблагонамеренности, а лишь «жажда театральной эффектности и большая неясность, зыбкость и туманность в понятиях… самоотвержения, мученичества тут, разумеется, нет; не говорю уже о том, что вольная страсть была бы в этом случае нелепость…».
Е. М. Хитрово писала Пушкину, что опубликованные строки свидетельствуют о каком-то глубоком несчастье Чаадаева. Сходное ощущение владело и Герценом, на которого чтение «телескопской» статьи в далекой Вятке произвело впечатление раздавшегося в темную ночь выстрела: «От каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда… Читаю далее. «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце. Я раза два останавливался, чтобы отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. Я боялся, не сошел ли я с ума… Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах…»
Существенные оттенки в понимании первого философического письма менялись в зависимости от своеобразия восприятия и личного отношения к его автору. 21 октября действительный статский советник Ф. Ф. Вигель, бывший в эту пору директором департамента иностранных исповеданий, писал петербургскому митрополиту Серафиму, что чтение «телескопской» статьи возбудило в нем негодование и повергло в отчаяние.
Тайную причину «безумной злобы сего несчастного против России» Вигель усматривает в его отступничестве от веры отцов и переходе в католичество, обвиняет издателя и цензора в преступной снисходительности и призывает митрополита указать правительству средства «к обузданию толиких дерзостей». Митрополит не замедлил снетись с Бенкендорфом и просил его обратить внимание тосударя на отмеченные им в статье Чаадаева суждения, кои «столько ложны, безрассудны и преступны сами по себе, что я не могу принудить себя даже к тому, чтоб хотя одно из них выписать здесь для примера…».
Но правительство уже приняло соответствующее решение. Еще 19 октября состоялось заседание главного управления цензуры, после которого министр народного просвещения С. С. Уваров представил всеподданнейший доклад.
Резолюция Николая I от 22 октября, когда-то любезничавшего с отставным ротмистром в манеже, гласила: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу». В тот же день он вызвал к себе Бенкендорфа, которому поручил немедленно составить проект отношения к московскому военному генерал-губернатору Д. В. Голицыну. Начальнику III отделения понадобилось очень мало времени, чтобы оценить высочайшую резолюцию, и уже через несколько, часов он представил требуемый текст, на котором царь написал: «Очень хорошо».
Текст этот определял весьма своеобразное наказание автору «дерзостной бессмыслицы»: «В последневышедшем № 15 журнала «Телескоп» помещена статья под названием Философические письма, коей сочинитель есть живущий в Москве г. Чеодаев. Статья сия, конечно уже Вашему Сиятельству известная, возбудила в жителях московских всеобщее удивление. В ней говорится о России, о народе русском, его понятиях, вере и истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унизить себя до такой степени, чтоб нечто подобное написать. Но жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом и будучи преисполнены чувства достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому, — как дошли сюда слухи, — не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Здесь получены сведения, что чувство сострадания о несчастном положении г. Чеодаева единодушно разделяется всею московскою публикою. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. Его Величество повелевает, дабы Вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева, и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья — Государю Императору угодно, чтоб Ваше Сиятельство о положении Чеодаева каждомесячно доносили Его Величеству».
В то время как некогда боевой товарищ и «брат» по масонской ложе проявлял столь необычную заботу о здоровье «г. Чеодаева», Петр Яковлевич проникался все большей тревогой за собственную судьбу, хотя поначалу и бодрился при известиях о непрерывно растущих великосветских толках. «Говорят, — пишет он одной из своих корреспонденток 15 октября, посылая ей экземпляр напечатанного сочинения, — что шум идет большой; я этому нисколько не удивляюсь. Однако же мне известно, что моя статья заслужила некоторую благосклонность в известном слое общества. Конечно, не с тем она была писана, чтобы понравиться блаженному народонаселению наших гостиных, предавшихся достославному быту виста и реверси. Вы меня слишком хорошо знаете и, конечно, не сомневаетесь, что весь этот гвалт занимает меня весьма мало. Вам известно, что я никогда не думал о публике, что я даже никогда не мог постигнуть, как можно писать для такой публики, как наша: все равно обращаться к рыбам морским, к птицам небесным. Как бы то ни было, если то, что я сказал, правда, оно останется; если нет, незачем ему оставаться…»