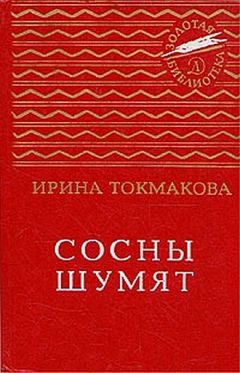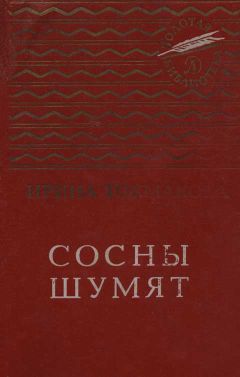Татьяна Егорова - Андрей Миронов и Я
Как написал Киплинг:
Останься тих,
Когда твое же слово
Калечит плут,
Чтоб уловить глупцов.
А через несколько дней в театре будут праздновать юбилей театра Сатиры и самого Плучека, ведь ему – 90! А вечером, чтоб никто не видел, накануне юбилея прикажут снять твой, Андрюша, портрет и портрет Папанова. О! Отомстили! Им больно видеть, невыносимо. А вам с Анатолием Дмитриевичем совершенно безразлично. Вы уже живете в мире других ценностей. Это косвенным образом подтверждает то, что этот театр недостоин ваших портретов!
В одном из интервью меня спросили: не думала ли я, что людям, о которых написала, будет больно? Ответ: «Почему же им должно быть больно? Ведь они это все о себе знают, с этим всем и прожили 90 лет. Я написала просто правду, для них это не новость».
А для меня новостью оказалось письмо, которое я получила:
«Уважаемая Татьяна Николаевна!
С великим сожалением перелистал последнюю страницу Вашей книги «Андрей Миронов и я». Низкий поклон Вам за этот труд. Если б Вы знали, с каким интересом я читал ее и как не хотелось мне читать главу о смерти Андрея Александровича! Я сутки не прикасался к книге, только чтобы он еще сутки оставался живым…
…Мыслей у меня сейчас столько, что письмо может получиться сумбурным, длинным и нечитаемым. Посему постараюсь не утомлять Вас. Воистину преклоняюсь перед Вашей любовью, удивляюсь стойкости и долготерпению Вашему, восхищаюсь Вашими душой и многоталантливостью.
В редкие приезды в Москву я всегда бываю на Ваганьковском и подолгу стою у могилы Андрея Миронова. Ваша книга – еще один памятник ему.
Думаю, что Андрей Миронов во многом состоялся как артист и потому, что, кроме таланта, всегда, где бы и с кем бы ни был, твердо знал, что у него есть Вы – причал, к которому он в любое время может, приспустив паруса увлеченности, пристать (в обоих значениях этого глагола), чтобы затем, оттолкнувшись от него, снова уйти в увлекательное для себя плавание.
К великой жалости, в свое последнее плавание сквозь вечность он ушел слишком молодым!
Ваша книга близка мне еще и потому.; что на пути моей любви тоже стояла мама, а я никак не мог понять, почему она, готовая, вроде бы, все сделать для счастья единственного сына, стала его наипервейшим противником.
Длилось наше страшное противостояние несколько лет, а всего прошло с тех пор более десятилетия. К счастью, финал этой истории был не таким печальным, как у Вас. И не потому, Татьяна Николаевна, что я в чем-то оказался сильнее героя Вашей книги, а скорее потому, что моя мама оказалась слабее Марии Владимировны…
Высылаю Вам свой последний сборник стихов – в нем вся история моей любви.
Еще раз благодарю за Вашу книгу, которая соткана из поэзии. Дай Вам Бог счастья! Искренне А.Райнер».
Звонок по телефону. Наташа и Валентин Гордеевы.
– Таня! Егорова! Это вы! Прочли вашу книгу. Низко вам кланяемся… Мы представители туристической фирмы и приглашаем вас на Новый год в Финляндию. Это подарок – за ваш талант, за ваш замечательный роман.
Я с благодарностью соглашаюсь. У меня впереди Финляндия, а в настоящем появились два хороших друга – Наташа и Валентин.
До Нового года еще далеко – я смертельно устала от съемок, интервью, встреч и решаю лететь отдохнуть в свой любимый Египет, на Красное море, в Африку!
Самолет, синее небо и постоянные мысли о тебе, Андрюша. 13 ноября была на кладбище. Запись в моем дневнике: «День памяти Машеньки… Царствие тебе небесное, родная! Все хлопочу у Орехова об решетках». И вот какое, Андрюша, я сделала открытие. Стою 13-го перед вашей могилой… не смотрю на качающиеся без решеток стелы, а смотрю прямо на крест, сквозь который струится свет веры. Вниз как будто соскользнули две бронзовые розы. И вспоминаю, как ты любил розы. Любил – это не так сказано. Между тобой и розами существовала тайна, которая тянулась из какой-то другой жизни, известна была только вам одним. Поэтому Мария Владимировна и сделала памятник в виде креста и двух роз. И вдруг – озарение! Крест и розы, розы и крест – Розенкрейцеры! Это символ ордена Розенкрейцеров! Меня всегда интересовал этот Орден, я много об этом читала. Великие ученые и философы были его приорами. Среди них – лорд Фрэнсис Бэкон. И как считают, он и был основателем этого Ордена. Это тайное общество людей владело сверхчеловеческими, если не сверхъестественными силами. Они учили через аллегорию, что истинным назначением человека является «возрождение через превращение» физической природы человека в золотую субстанцию духа и интеллекта. Через крест – к розе! Шекспир и лорд Фрэнсис Бэкон – один сын ремесленника, другой незаконный сын королевы Елизаветы и Лейстера. Наверное, правда, что Шекспир – это маска Фрэнсиса Бэкона, герцога Веруламского. Он владел несколькими иностранными языками, не говоря о латыни и греческом, много путешествовал, великолепно знал придворные интриги, в то время как родители Шекспира были неграмотными, и Шекспир в самом «зените» своей литературной славы больше всего был занят скупкой солода для пивоварения. Другими словами, личная жизнь Шекспира не соответствует приписываемому ему литературному величию. Исследователи этой темы пишут: «Философские идеи в пьесах Шекспира демонстрируют, что их автор хорошо знаком с доктринами и идеями Розенкрейцеров и несет на себе отпечаток такого величия, которое присуще только лишь просветленным этого мира».
Итак, великий Шекспир или лорд Фрэнсис Бэкон, великий магистр Ордена Розенкрейцеров, и его театр «Глобус». Глобус – земной шар, мир, то есть театр мира или всемирный театр.
Выходит, скульптор Юрий Орехов, автор надгробия, сам того не ведая, воплотил замысел Розенкрейцеров, изобразив крест и две соскользнувшие розы.
Они приняли тебя, Андрюша, в свой Орден – Розы и Креста. Ты – актер всемирного театра, имя которому – Вечность. Имеющие уши, да слышат, имеющие глаза, да видят.
«Пристегните ремни, через полчаса мы приземлимся в аэропорту Хургада». Лежу на пляже и думаю: что это за явление – зависть. Наверное, это обида лишенного, ненависть к обладающему, злоба на чужое преимущество любого рода; ненавистная жажда отнять у него это преимущество или уничтожить его совсем. Вот истоки немощных по своей сути рецензий, гонений, уничижений. Ты все это прошел, Андрюша, в театре. А я в пути. Но я не унываю, поскольку истина всегда гонима и только за хорошим конем поднимается пыль.
И я спешу сообщить всем – моя позиция, выраженная в книге, неизменна! Я вступилась не за себя, а за тебя, Андрюша, а здесь никакой пощады быть не может.
Перед отъездом в Москву я на уникальном представлении – поющие фонтаны. Ночь. Звезды. Невдалеке из натянутой ткани чуть подсвеченная огромная пирамида. Амфитеатром расположены кресла для зрителей, перед нами длинный темный прямоугольник с торчащими внутри пестиками для фонтанов, пока еще молчащими… Тишина… ветер… тьма… звезды… напряжение ожидания – вот-вот должны взмыть разноцветные брызги. Андрюша, ты сидишь рядом со мной, так всегда, когда я бываю за границей или вижу что-нибудь ошеломляющее, что могло бы восхитить и тебя. И вдруг на фоне черного африканского неба энергично взмывают вверх струи всех цветов радуги под Первый концерт Чайковского, мощная музыка которого, кажется, несется по всей Африке. Фонтаны танцуют, извиваются, перекрещиваются, соединяются и несутся к небу винтом, и вдруг внутри этих струй мне чудится картина – Луксор, дворец, недалеко пруд во дворце, в котором раз в год происходят таинственные мистерии Египта, ночь. На берегу сидят жрецы в белых тюрбанах на головах, воду пронизывает свет Луны – полнолуние. Участники мистерий – царица Хатшепсут и ее супруг, они прощаются. У берега на воде стоит крылатый источающий свет челн. В челне в прекрасных одеждах стоит супруг царицы Хатшепсут – протягивая ей руки. Она на берегу. В руках у нее посох с набалдашником в форме скарабея. Звук гонга – челн отплывает. Царица с воплем протягивает руки, царь ловит их в воздухе, и в мгновенье царица оказывается рядом с ним в блистающем челне. Это – мистерия-символ. Куда бы воды жизни ни унесли возлюбленного, душа его, обличенная в женскую плоть, будет всегда следовать за ним.
Кончился Первый концерт Чайковского, кончилось мое видение, навеянное моей поездкой в Луксор. Музыка льется, фонтаны струятся, обнимают друг друга, встречаются, расстаются…
С видения египетской мистерии как будто сползает шелковая ткань фантазии самой древней в мире цивилизации. И на ее месте появляется наш советский Белорусский вокзал. Мы с тобой, Андрюша, бежим по перрону, ты опаздываешь на поезд, уезжаешь на съемки в город Брянск на три дня. Вот ты с сумкой через плечо вскочил в тамбур. На тебе серые летние брюки и любимая бордовая футболка со светлой каемкой вокруг шеи… я в синем платье в белый горох. Может быть, я и сошла бы за царицу Хатшепсут, но вместо посоха со скарабеем у меня в руках с трудом добытая в те времена польская сумка из кожзаменителя. На груди – брошка, модная тогда, из нескольких вишен с зеленым листом. Вместо блистающего челна – поезд, а вместо жрецов – проводница, которая по своей специальности всегда всем недовольна и велит прощаться и выйти всем вон из вагона. Андрюша, ты стоишь в тамбуре в роли царя Кинематографа, мы что-то говорим быстро друг другу. Свисток… поезд двигается, я протягиваю тебе руки, ты ловишь их в воздухе, и в мгновенье – полет, и я оказываюсь в тамбуре. Мы вместе едем в город Брянск. В поезде пьем чай, не спим, болтаем… Потом три дня съемок, в жаре, в пыли, с твоими любимыми плавлеными сырками… И ты не переставая смеешься и говоришь: «Как я тебя разыграл! Ты думаешь, это импровизация? Я заранее все продумал… Импровизация хороша только тогда, когда она подготовлена. А что тебе в Москве делать в такую жару?»