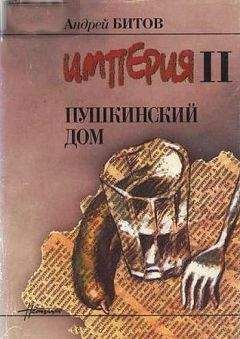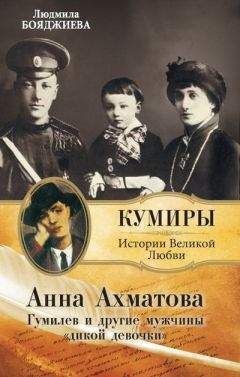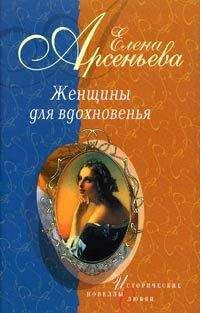Андрей Битов - Пушкинский том (сборник)
«Скука, холод и гранит» – только в Петербурге осень бывает еще хуже. И это было еще одним, последним условием для написания «Медного всадника».
Размышление над «Полтавой»
1709–2009, 1828–2014
К трехсотлетию Полтавской Битвы
Полжизни назад прекрасным летом я обнаружил себя стоящим на поле Полтавской битвы. Это было неожиданно сильное чувство. Во-превых, поле было и впрямь полем, засеянным только Господом васильками и божьими одуванчиками. Во-вторых, я попал в строку пушкинской поэмы.
Как пахарь битва отдыхает…
Но что меня растрогало, так это равноправие памятников павшим, как русским, так и шведам. И сохранность была хорошая. Будто совместно пролитая кровь и поэзия облагородили, даже европеизировали пространство. Пустота, тишина, чистота.
Лишь согласное гуденье насекомых.
Однако… «Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен». Петр всё еще оставался здесь. Отгремевшая старинная битва продолжала висеть в воздухе.
«Поэзия – соединение далековатых понятий»… Ломоносов или Пушкин? («Битва», М., 2009.)
Не перечитывал «Полтаву» слишком давно. Мне лучше известны обстоятельства написания поэмы, чем ее текст: после того, как Николай I освободил поэта из ссылки, после того, как «Борис Годунов» не прозвучал (знаменитый отзыв благодетеля переделать драму «в повесть на манер Вальтер Скотта»)… Пушкину надо чем-то подтвердить свой свободный статус в 1828 году.
«Полтава» догоняет и перегоняет «Бориса Годунова» как бы в предвосхищении предстоящих польских событий:
То давний спор славян между собою…
Строчка, за которую Пушкина еще будут распинать либералы с 1831 года до сегодняшнего дня.
В завязку сюжета Пушкин кладет драму вполне оперную: месть Кочубея гетману Мазепе за обесчещенную дочь Марию. Но очень уж скоро содержанием поэмы становится политика.
Грозы не чуя между тем,
Не ужасаемый ничем,
Мазепа козни продолжает,
С ним полномощный езуит
Мятеж народный учреждает
И шаткий трон ему сулит.
Во тьме ночной они как воры,
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов,
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
<…>
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги…
<…>
Там будят диких орд отвагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Что тут неизменно до сего дня? Прозрения ли Пушкина или Россия с Украиной?
И письма шлет из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В степях Очакова паша,
Во стане Карл и царь. Не дремлет
Его коварная душа…
И вдруг утомился перечитывать. Пролистал быстренько любимое описание битвы… и наткнулся:
Среди тревоги и волненья,
На битву взором вдохновенья
Вожди спокойные глядят,
Движенья ратные следят,
Предвидят гибель и победу,
И в тишине ведут беседу.
«Вожди спокойные…» Нет! недопустима такая убийственная точность!
И тут окончательно расхотелось дальше вникать в поэму, как и смотреть очередные «Новости» по телевизору.
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
<…>
Зависеть от царя, зависеть от народа -
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать…
Нет, не нравилась ему власть. Он признавал роль личности: Петра, Ломоносова, Екатерины, Наполеона, Карамзина, себя самого… сочувствовал даже Годунову с Пугачевым, той ответственности, что ложилась на них («Тяжела ты, шапка Мономаха») и которой непросто соответствовать. Иной раз обольщался, мечтая о себе рядом с ними: «И истину царям с улыбкой говорить»
Но все это были думы скорее историка, чем поэта:
Иная, лучшая потребна мне свобода…
Казнь как опыт
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Известно простодушное возражение Митрополита московского Филарета, переиначившего эти стихи: «Не напрасно, не случайно…»
Пушкин ответит себе на этот вопрос в 1835 году:
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец!
Но Твоя то будет воля,
Не моя –
Кто там идет?…
Повторяет слова Христа в Страстную Пятницу.
Последний вопрос звучит по-командорски, сближая это стихотворение с опытом «Маленьких трагедий». Казнь Дон-Гуана…
Слово казнь достаточно часто (сотню раз) встречается у Пушкина не только потому, что он много занимался русской историей, пропитанной кровью, как губка. Не только потому, что его лично потрясла казнь его товарищей-декабристов. Хочу дальше проследить, как он употребляет понятие казнь, примеряя его к себе лично.
Увы моя глава.
Безвременно падет: мой недозрелый гений
Для славы не свершил значительных творений;
Я скоро весь умру.
Судьбу Андрея Шенье он пропускает: Нет, весь я не умру! 1836. Пушкин намеревался пройти весь путь.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился.
Рискую провести здесь хирургическую параллель (сопо-ставление = противопоставлению) Эйфелевой башни с Пизанской.
«Пророк» – очень кровожадное стихотворение, хотя и начинается с ласковых прикосновений шестикрылого серафима перстами, легкими, как сон. Но наделив поэта всеми шестью доступными и недоступными чувствами, тот же серафим приступает к жестокой расправе:
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый…
Я уже неоднократно говорил, что у Пушкина все слова помнят друг о друге, так что уже не боюсь повториться. Во второй раз я встретил празднословие лишь в последнем, «Пасхальном» цикле 1836 года в стихотворении «Молитва»:
И празднословия не дай душе моей.
И сразу следом стихотворение «Как с древа сорвался предатель-ученик…»
Экзекуция, производимая дьяволом над Иудой, симметрична операции, проводимой Серафимом над поэтом. Но если труп поэта лишь «как труп» и воскрешается Богом, превращая его в пророка, то предательство ученика Божьего подлежит лишь оживлению для конечной пытки: