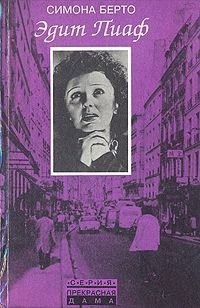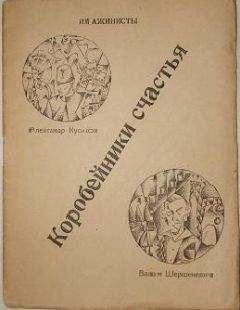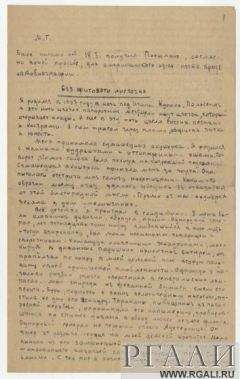Симона Берто - Эдит Пиаф
Эдит полагалось пять уколов. Каждый день их сокращали, и наступил день «без».
«Я думала, что в тот день сойду с ума. Ужасающие боли разрывали меня на части, выворачивали наизнанку мышцы, сухожилия двигались сами собой. Я вдруг то скрючивалась, как старая виноградная лоза, то вдруг распрямлялась, как пружина. Надо мной склонялись смутные призраки в белом. У них почему-то были только части лица, которые то появлялись, то исчезали. Они, как рыбы, открывали рты, но слов не вылетало. Меня привязали. Я превратилась в животное, я не знала, кто я и что я, у меня текла слюна, но я этого не замечала. Ни секунды покоя, ни секунды ясности ума. Потом мне сказали, что это длилось только сутки, мне же казалось — тысячу лет…».
Через три недели врач сказал Эдит, что курс лечения закончен, но что она еще не выздоровела, что у нее может наступить нервная депрессия. Она ни о чем не хотела слышать, она хотела домой.
Какое там пение, какой там «Равнодушный красавец»! Целые дни Эдит валялась как тряпка либо в кресле, либо забившись в уголок дивана, либо в постели. Она не хотела ни есть, ни двигаться, она не хотела жить. Эдит видела, как приходили и уходили Жак и Лулу, но они не знали, слышала ли она то, что они ей говорили. Она отказывалась слушать музыку, любой звук причинял ей боль. Она рассматривала свои руки так, будто не узнавала их.
В один прекрасный день Эдит вдруг заговорила, ожила. Но объяснилось это чудо просто: она снова тайком стала колоться.
Возобновление «Равнодушного красавца» было самой большой неудачей за всю ее карьеру и самой плохой финансовой операцией. Так как никто не хотел ставить пьесу, Эдит сказала: «Плевать. Поставлю сама».
Все были в ужасе. Она сняла театр Мариньи и решила сама быть режиссером не только пьесы, но и обеих концертных программ, своей и Жака Пилса. Она говорила: «Чудесно, я снова взлетела!»
Она летела в пропасть…
Цену этой ошибки Эдит осознала скоро. Счета приходили огромные. Декорации стоили один миллион (старых) франков, музыканты — сто тысяч франков в день; один из так называемых друзей уговорил ее выписать из Флоренции двух мандолинистов, которым она платила по три тысячи франков каждому за вечер. В семьсот тысяч франков ей обошлись сверхурочные часы рабочих сцены. И так во всем. Она назначала репетиции и приходила с опозданием в несколько часов, кололась за кулисами, чтобы продержаться, и работала всю ночь.
Жак Пиле был очень милым человеком. Он был уверен, что любит Эдит, но не тянул рядом с нею ни в жизни, ни на сцене. Американцы прозвали его «мсье Шарм», и это было очень точно. Чтобы муж не провалился, жена убрала из своей программы все сильные песни и оставила только легкие, не утомлявшие ни публику, ни ее саму. Этим она себя погубила. Хныкающая и слащавая Пиаф разочаровывала, пение, лишенное пафоса и страсти, не волновало, но лилось, как бесцветная вода из открытого крана. Что с ней стало? Эдит Пиаф больше не было.
В этот единственный раз, если говорить о ее профессии, я испугалась за Эдит. «Равнодушный красавец» — сложная пьеса, на ней можно сломать себе шею. Что и случилось с Эдит. Боже, что она перенесла! Роль Поля Мёрисса совершенно не годилась для Жака Пилса. Он был сама улыбка, само обаяние. Вынужденный молчать и играть раздражение, он сразу лишался всей своей привлекательности. Он томился на сцене, как мальчик, поставленный в угол. Ампулы искусственного счастья вызывали у Эдит провалы памяти, и она говорила свой текст с большими пропусками.
Едва выскочив из этого переплета, Эдит и Пиле отправились на гастроли. Блуждая в тумане, засасываемая болотом наркомании, она цеплялась за Пилса.
«Понимаешь, я не могу с ним расстаться, кроме него у меня никого нет, Момона. Если бы ты знала, как он со мной нежен, терпелив, ни разу не рассердился… А что я ему устраивала…».
Я молчала, но про себя думала, что было бы лучше, если бы он один раз вышел из себя и даже как следует отлупил. Но на это рассчитывать не приходилось: всю свою жизнь он только и делал, что очаровывал, а чтобы удержать Эдит, нужна была железная рука. Эдит никогда не была легким человеком, а уж тем более теперь, когда она с головокружительной быстротой катилась под откос.
Чтобы не слишком налегать на морфий, она пила. Теперь уже не ради веселья, как раньше, а из страха перед ломкой. В этой ситуации Жак был скорее партнером, чем надсмотрщиком. Кроме того, он искренне считал, что для нее опаснее держать в руке шприц, чем бокал!
Во время этих гастролей они устраивали невероятные попойки. Однажды в Лионе они зашли в бистро в половине первого ночи, чтобы выпить пива, и в восемь утра еще были там. Как они набрались, можно себе представить, если все, кто с ними был, спали вповалку на столах.
Пьяного Бог бережет, это точно; он, вероятно, еще и садится за руль, потому что как иначе смогли они доехать до Баланса — им захотелось позавтракать именно там! Ввалившись в кафе, они потребовали: «Яичницу и белого вина!»
Им было море по колено, они выглядели свежими как огурчики. Эдит смотрела на Жака с восхищением — наконец она нашла себе собутыльника под пару. Особенно ей понравилось, как Жак с пьяным хвастовством спросил ее: «А интересно, кто нас сюда довез?» А ведь он довез!
В «Казино Руайаль», где Эдит выступала, смесь вина с морфием наконец довела ее до того, что она испугалась. Однажды она не смогла найти выхода из кулис на сцену. Как слепая, она тыкалась о косяки и кричала: «Сволочи! Они заперли выход! А где занавес? Занавес украли!..» Ее буквально вытолкнули на сцену. Лулу взмок от страха. Это было ужасно.
«Мне показалось, что я пою, а произносила слова, не имевшие никакого смысла… но мне они нравились. Люди начали свистеть, потом орать, как во времена «дела Лепле». Это меня протрезвило, и я смогла допеть до конца».
Вот когда ампула с морфием окончательно стала во главу угла.
«Не знаю, как я закончила гастроли. Добиралась до гримерной в полной отключке, кололась и пела дальше. Уходила со сцены, Лулу подхватывал меня, иначе я бы рухнула на пол. Я не хотела делать больше трех уколов, упиралась изо всех сил, но очень скоро стала делать четыре, потом пять… Когда я смотрелась в зеркало, мне хотелось выть, до того я сама себе была противна. Однажды я сказала себе: «Нет! Я выдержу, я избавлюсь…» — и я не сделала укола.
Не помню, как я вышла на сцену. Прожектора били в лицо, в их огненном свете перед глазами кружились красные звезды. Я не услышала музыкантов и ждала, когда они заиграют, чтобы начать петь. Я чувствовала, как пот, отвратительный, липкий пот, смывая грим, течет по лицу. Я качалась, как на палубе. Схватив микрофон, я уцепилась за него и сжимала изо всех сил. Мы вместе раскачивались, как мачта во время бури… Я запела… но внезапно остановилась. Не могла произнести ни слова, ни звука. Издалека донесся смех публики, нехороший смех. До меня долетали слова, они лопались, как пузыри, о мою голову, о мои уши. Тогда я заплакала… и стала звать: «Марсель, Марсель…» Не знаю, кого я звала, свою дочку или Сердана… Потом я крикнула публике: «Простите! Я не виновата… Простите!..»