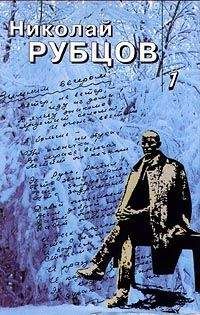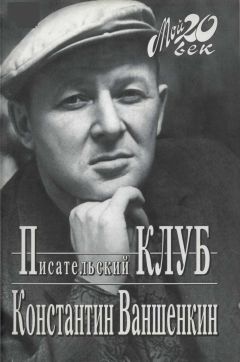Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
В конце дня приехала с работы его жена Тоня, зашла к нам — глянуть. С ней была их дочь Марина, она уже видела. Тоне тоже понравилось.
Потом, уже в сумерках, они сидели вместе с моей женой и с Галей, разговаривали. Портрет стоял на стуле. Тоня вдруг повернула голову в направлении портрета и спросила:
— А ты что молчишь?..
Ей показалось, что и Фазиль в комнате.
Сидур и другие
Слуцкий любил приобщать, открывать. Однажды он подошел ко мне в нашем Клубе и спросил, не хочу ли я заехать с ним в мастерскую к трем скульпторам — Вадиму Сидуру, Владимиру Лемпорту и Николаю Силису. Недавно была их выставка в редакции «Комсомолки». Вот и Булат едет. Я согласился: за компанию, да и читал о них. К тому же по дороге.
Мастерская размещалась в начале Комсомольского проспекта, напротив церкви Николы в Хамовниках. Это замечательный действующий храм, ему скоро триста лет, и содержится он с исключительной тщательностью.
А мастерская в восьмиэтажном доме через дорогу и, как почти у всех скульпторов, в подвале. Иначе пол провалится.
Я помню, как мы в темноте спускаемся по сбитым ступеням, звоним. Несем в свертках что‑то из буфета.
Нам открывают, — все просто, весело. У двоих бороды. Масса работ. Таких, что сразу хочется что‑то иметь. Рассматриваем их, но не так, чтобы специально. Садимся за стол. Стаканы в глине. Знакомимся подробней. Жена Димы Сидура — Юля. Потом, помню, приехала Ия Саввина. Еще были физики, — может, и не в тот раз. Кого‑то из них я знаю. Теперь некоторые стали академиками.
А хозяева! Какие приятные, доброжелательные ребята. Крепкие — скульпторы!
Володя и Коля — они так представились и просят так себя называть, да и нас почти с ходу, может, со второго раза, называют по имени — так вот Володя и Коля снимают со стены гитары и начинают играть. Да как! Они играют на гитарах Баха. А потом поют блатные, или, скорее, стилизованные, песенки.
А Дима улыбается, — не поет, не играет, это не его дело.
Булат тоже берет гитару. Поет свое. Он только — только входит в известность.
Потом уже я подумал: непонятно, кто из них был, как теперь говорят — лидер. Сначала я решил, что они так втроем и работают. Но нет. Как бы общая фирма, а когда захочешь приобрести что‑то, выясняется — чье это.
Я ездил туда не раз с женой, и ей страшно понравилась сидуровская «Гладильщица», женская фигура из обожженной глины, мощно склонившаяся над утюгом. А на затылке трогательный пучок. Работа небольшая, но при многократном увеличении она была бы уместна где‑нибудь в сквере, перед прачечной или ателье.
Я решил купить ее в подарок. Денег у ребят не было, но и спроса тоже. Брали недорого, учитывая и возможности покупателя. Помню, они мне запаковывали, завязывали сразу несколько вещей. Был жуткий гололед, и они напутствовали:
— Разобьешь — не выбрасывай. Склеим…
Но не разбил.
У нас пять их работ: кашпо, подаренное Лемпортом, длинная, облитая коричневой глазурью «Пляжница» Силиса. Еще одна его же могучая женская фигура, тоже со сдвигом, скорее символ. И две Сидура — «Гладильщица» и настенная тарелка «Семья в кривом зеркале». Девочка в платьице с торчащими из‑под него трусиками, а по бокам родители — толстая мама, держащая связку баранок, и веселый папа, — все трое слегка искаженные в аттракционе «Комната смеха». Школьная подруга жены увидела и заквохтала: «Это же мы с Петей и Ирочкой…»
Как‑то мы услышали у них в мастерской фамилию Зиневич. Андрей Николаевич? Мы его хорошо знали, и о нем тоже хочется рассказать. Он был физик, работал в ФИАНе, но главной его жизненной страстью было искусство: керамика, скульптура, дизайн. Домоуправление выделило ему в соседнем с нашим доме комнату для работы. А он за это, как тогда стали говорить, на общественных началах — вел детский кружок. Ребятишек, особенно в длинные осенние или зимние вечера, набивалось полно, сопели, лепили увлеченно — каждый свое, сами производили обжиг в специальной печи. И он занят был своим делом. Давал им полную свободу, ничего не навязывал. Иногда они подходили к нему, спрашивали, советовались. Он серьезно, как равным, показывал или объяснял. Зиневич исповедовал весьма распространенную теорию, согласно которой все дети изначально талантливы. Но доказывал он это на практике. Его студия гремела, на всех смотрах и олимпиадах занимала первые места. Наша дочь тоже посещала ее. В десять лет она была уже участницей выставок в ГДР, на ВДНХ и еще где‑то.
Андрей Николаевич, будучи физиком (а может быть, и химиком?), находил или создавал для своих настенных тарелок и керамических «плашек» удивительно насыщенные, яркие краски, видимо недоступные профессиональным художникам. В связи с этим Лемпорт и Силис не раз привлекали его себе в помощь, — при больших, скажем, отделочного характера заказах.
Работы Зиневича висят сейчас во многих московских домах.
Однажды мы встретили их — Лемпорта, Силиса и Зиневича — в Коктебеле, шумных, густо загорелых, в шортах, с масками и ружьем для подводной охоты. И гитары были при них, не на пляже, конечно. Мы и тут немало общались, я познакомил их чуть ли не со всеми своими коллегами. Так они втроем и остались в памяти многих.
А Сидур на юг, видимо, уже не ездил. Он ездил под Москву, в Алабино, к родителям, размышлял и работал там.
Как‑то в Коктебеле скульпторы (так для понятности эту троицу все называли) пригласили нас на шашлык. Это было главное здесь развлечение после моря и сбора камешков — шашлык вечером, в полутьме, при свете костра и мангалов.
Кругом на земле мрак, вверху крупные звезды, а порой, когда все замолчат, отдаленный шипящий звук моря. Да еще время от времени почти театральные столбы пограничных прожекторов — по заливу и белой пене прибоя.
В тот вечер давило тяжелое известие — кто‑то сообщил, что на Карадаге, сорвавшись, разбился молодой физик. Такое здесь иногда случалось.
Но что поделаешь, — постепенно отвлеклись, почти забыли.
И тут сидящий рядом со мной Володя Лемпорт небрежно сказал мне, что шашлык этот они купили у той компании, откуда был физик. Те собирались веселиться, но сейчас им не до этого. Он говорил с той спокойной интонацией жизненной реальности, какая бывает на войне, где едят пайку погибших, почти равнодушно. Но ведь здесь‑то не война. Мне не захотелось передавать его слова кому‑то еще.
А вообще это были ребята симпатичные, свойские, немного грубоватые. Хваткие такие ребята. Они с охотой брались почти за любое, в том числе и не за свое, дело. Снимались в кино, в каких‑то пиратских фильмах. А через много лет Лемпорт сделал даже попытку войти в литературоведение, выдвинув в многотиражке «Московский художник» свою не слишком стройную концепцию по поводу места и методов Маяковского в советской литературе.