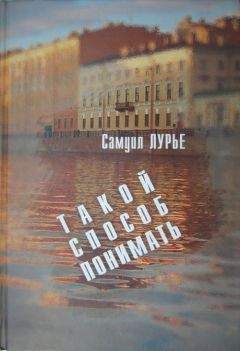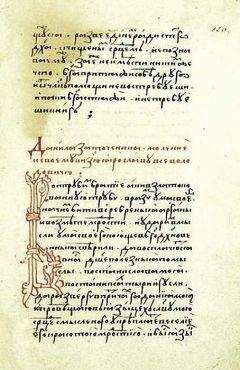Самуил Лурье - Литератор Писарев
Сегодняшняя проповедь была о благоразумном разбойнике: не о том, который висел слева от Иисуса и, сам умирая, дразнил его, говоря: если ты Христос, спаси себя и нас; но о том, который висел справа и урезонивал своего озлобленного товарища: дескать, чего пристал к человеку, ему и так хуже, чем нам с тобой, потому что мы осуждены справедливо.
— Достойное по делам нашим приняли! Так сказал раскаявшийся злодей. Многие ли из вас возвысились до него? Многие ли повторяют эти слова утром и вечером от полноты сокрушенного сердца? Многие ли сумели до конца прочувствовать вину, которая привела каждого из вас в стены сей крепости?
Писарев слышал, что позади произошло какое-то движение. Серно-Соловьевич, должно быть, стоял теперь совсем близко, за плечом.
— Сущая ложь, — шептал он почти беззвучно, но очень отчетливо. — У Матфея, как и у Марка, оба разбойника поносят Христа, и весь народ с ними, как и всегда бывает в жизни. Этого благоразумного Лука выдумал.
— Знаю, что в гордыне самообольщения иные думают про себя: какой же я разбойник? Разве я убивал или грабил? Я всего только сочинял — или читал — или говорил — слова, смысл которых клонился к охуждению законов и властей, от Бога поставленных. Только и всего! Зачем же держать меня взаперти? — Отец Василий проговорил всю тираду нарочито тоненьким голоском и даже как бы съежился, очевидно, изображая глупого преступника, но тут же распрямился и прогремел: — А затем и держать! Затем что не придумал враг человеческий более тонкого и соблазнительного, более опасного яда, чем речь, напоенная отрицанием и сомнением…
— Боже, какой лицемер, — еле слышно доносилось сзади, — просто во рту оскомина. И почти три года это был единственный мой собеседник. Удивительно, как я не помешался. Он живал за границей, он магистр философии, он не может не знать, что убеждения, за которые нас мучают, исповедуются в целом мире миллионами, десятками миллионов!
А отец Василий уже декламировал басню Крылова «Сочинитель и разбойник»:
Ты ль Провидению пеняешь?
И ты ль с разбойником себя равняешь?
Перед твоей ничто его вина.
По лютости своей и злости
Он вреден был,
Пока лишь жил;
А ты… уже твои давно истлели кости.
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя не осветило бед.
Твоих творений яд не только не слабеет,
Но, разливаяся, век от веку лютеет…
Хорошо читал отец Василий Полисадов. И Крылову эта басня особенно удалась. Заслушались конвойные солдаты, замерли арестанты, замолк над ухом Писарева едкий шепоток. Только стихи гениального поэта разносились над толпой, ударяя по сердцам с невиданною — или как там? неведомою? — силой:
Вон дети, стыд своих семей,
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены? — Тобою.
Кто, осмеяв, как детские мечты,
Супружество, начальство, власти,
Им причитал в вину людские все напасти
И связи общества рвался расторгнуть? — Ты.
Не ты ли величал безверье — просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти, и порок?
И вон, опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами,
И до погибели доведена тобой!
В ней каждой капли слез и крови — ты виной.
Протоиерей выдержал паузу, желая, наверное, насладиться произведенным эффектом, но многие заключенные воспользовались ею, чтобы откашляться, и хриплый лай наполнил церковную залу.
— Вот оно, — повысил голос отец Василий, — вот оно, вечное чудо искусства. Крылов сам был сочинитель, но его творения пробуждали и пробуждают в людях добрые чувства: любовь к престолу, к отечеству, а паче — к небесному нашему Отцу. И за это — ему даровано истинное бессмертие…
Набрался он все-таки в Европе вольнодумного духа, этот поп: светские стихи читает с амвона, о чудесах искусства распространяется… Истинно бессмертный баснописец — это, должно быть, самая настоящая ересь. В средние века священника за такую проповедь просто-напросто сожгли бы на костре.
— Бессмертие в русских умах и русских сердцах! Разве не подумалось нам с вами, дети мои, что эта вот самая басня написана не далее как в прошлом году? Что разоренная мятежом страна — это несчастное Царство Польское? Что совратитель, дерзко смеющийся над всеми установлениями, божескими и человеческими, это не кто иной, как пресловутый Герцен, по чьей вине и многие из вас находятся здесь? Ну можно ли поверить, что этому прекрасному сочинению — почти полвека?
— Двести восемьдесят девять человек расстреляны и повешены. Это если верить газетам, — шелестело у Писарева за спиной. — А толпа так гнусно подла, что замарала бы самые ругательные слова. Я проклял бы тот час, когда сделался атомом этого народа, если бы не верил в его будущность. Но и для нее теперь гораздо более могут сделать глупость и подлость, чем ум и энергия. К счастию, они-то и у руля.
— Замолчите, господин! — резко проговорил вдруг солдат, стоявший справа, и Писарев вздрогнул, но не повернул головы.
— …Перед вами две дороги, — с угрозой продолжал Полисадов, глядя, казалось, прямо ему в глаза. — Пойдете направо — там ожидает, восседая одесную Спасителя, ликующий некто, которого мы называем теперь благоразумным разбойником. Налево пойдете, — отец Василий уже спешил, — попадете в объятия Герцена и компании, заслужите поношение и постыдную кончину в жизни сей, муку и гибель в жизни будущего века. Итак, выбирайте, пока не поздно. Аминь.
Проповедь окончилась. Тотчас послышалась сзади возня, сдавленный голос произнес: «Руки». Писарев стоял как бы окаменев: оборачиваться не разрешалось.
— Прощайте! — сказал где-то далеко, должно быть у самых дверей, но громко и весело Серно-Соловьевич. — Почва оказалась болотистее, чем мы рассчитывали, но не вздумайте унывать. Это счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже. Надо вбивать… — Голос прервался и донесся последний раз откуда-то из-за дверей: — Сваи! Сваи надо вбивать! Прощайте!
Писарев оторвал взгляд от пола и осторожно поднял голову. Арестанты и солдаты стояли смирно, тишина прерывалась только чьим-то гулким кашлем. На амвоне никого не было, Полисадов скрылся в алтаре.
Но что-то мешало вздохнуть, и чувство близкой опасности не проходило. Только когда солдаты приказали ему повернуться и повели к выходу, Писарев понял, откуда это чувство. У дверей стоял, не сводя с него глаз (и ясно было, что давно стоит и давно не сводит глаз), комендант Сорокин.