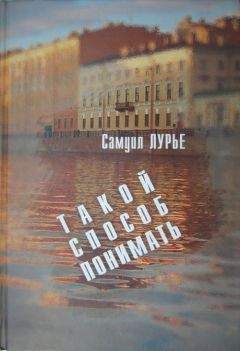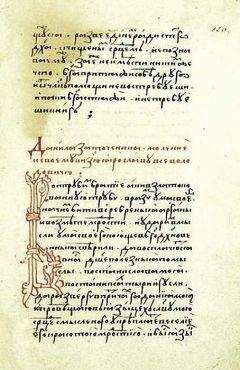Самуил Лурье - Литератор Писарев
— Вот жалость! А как же неизвестный, но отвратительный господин Николай Соловьев? Где найдет он пристанище? Где ему теперь оплакивать мою погибшую нравственность? Только я собрался позаняться им пристальней, — ан его уже и нет, преследователя моего меднолобого.
— Нашел о ком думать — о букашке. Он плевка не стоит. Забудь. А Достоевский объявил временное банкротство и еле-еле уговорил кредиторов отсрочить платежи. Собирается за границу — писать роман. Напишу, говорит, и расплачусь со всеми.
— Предложить бы ему сейчас хороший аванс, чтобы роман остался за «Русским словом»! Он писатель настоящий. А проза у нас в журнале хоть и честная, а так скучна, что удивляюсь, как подписчики терпят.
— Настоящий-то он настоящий. Но запальчивый какой-то, опрометчивый, блажной. «Мертвый дом», что говорить, великая книга, но видел бы ты новую повесть, вот в последнем, февральском нумере «Эпохи». Одного господина проглотил крокодил, и этот господин из утробы крокодила принимается проповедовать разные теории, в том числе теорию новых экономических отношений. Каков сюжетец? В публике толки. Одни говорят, что здесь разумеется Щедрин, его участие в «Современнике». Другие утверждают, и даже в печать проникли намеки, будто крокодил — это крепость, и тогда проглоченным господином — глупым и смешным — выходишь ты либо Николай Гаврилович. Во всяком случае, иные фразы прямехонько из «Русского слова». А ты говоришь — аванс, подписчики. Что проку в таланте, если нет направления?
— Достоевский сам сидел, сам был на каторге и в ссылке. Не может он издеваться над нашей участью. Это недоразумение. Ты что-нибудь не так понял. Не поверю, пока не прочту собственными глазами!
— Хорошо, хорошо, не огорчайся и не сердись. Я ни в чем не убежден. И насчет аванса мысль, пожалуй, разумная, да денег в кассе нету таких: он много запросит, особенно сейчас. А у нас подписка до двух тысяч пока не дотянула.
— Нет, так нет. И мне тогда не торопись прибавлять полистную плату. А над Чернышевским смеяться — это слишком. Думаешь, пропустят «Мысли о русских романах»? Ах, ну да, я и забыл: спрашиваться не надо. Но ты же сам говоришь: то, что прежде вычеркивали, нынче станут запрещать, а чего не запретят, за то засудят. И цензоры прежние…
— Название замени, начало перепиши. И я еще пройдусь, ты уж прости, осторожным перышком. Как новая будет статья. Не вспомнят, не узнают. А волков бояться — в лес не ходить. Ежели на первых же порах себя не поставить как следует — после и подавно считаться с нами не станут.
— Да я-то не боюсь… Одним словом, тебе видней, а я — с моим удовольствием. Лишь бы военачальник не заупрямился: к делу, скажет, подшил рукопись, или потерял. С него станется.
— Выцарапаем, ничего. Рукопись — это, брат, собственность, а собственность священна. К тому же хоть он теперь полный генерал и без высокопревосходительства лучше не подступайся, но есть начальство, слава богу, и над ним.
— Попробуем. Договорились. А что еще там делается, на наших литературных пажитях?
— На пастбищах, ты хотел сказать? А все то же самое. Новости похожи одна на другую, время словно и не идет. Вот «Народную летопись» закрыли. Это газетка такая сочинялась в начале марта. Двенадцать нумеров только и вышло — вполне порядочных, не то Елисеев орудовал, не то Жуковский, под псевдонимом. А дохнул Валуев, и нет больше «Летописи», тринадцатому нумеру не бывать. Как раз тринадцатое число и подвело. Все газеты, видишь ли, в этот день обвели свои страницы траурной каймой, а «Летопись» и в ус не дует, даже извещения не дала о смерти наследника. Как бы не успела редакция распорядиться. И это бы еще ничего. Но следующий нумер вышел с траурной каймой…
— Так что же?
— А то, что на полосе — депеша из Нью-Йорка: «Президент Линкольн прошлою ночью застрелен убийцею. Он скончался сегодня».
— Так Линкольн убит?
— Убит. Какой-то актер по фамилии Бут или Бус прямо со сцены, говорят, во время представления выпалил дважды по президентской ложе.
— Агент плантаторов?
— Без сомнения. Но распубликовал письмо, где, конечно, рекомендуется врагом тиранов. Так сказать, Бут лезет в Бруты. Мы выразили американцам глубокое прискорбие, а «Народную летопись» все-таки — того. Будете знать, мол, как соваться не в свое дело. Бедная русская пресса! Вечно урок не выучен, вечно неполный балл! Валуев, без шуток, мнит себя педагогом, ну а мы все для него школяры, причем противные: в классах ленимся, одеты не по форме, причесаны не так, и фуражку снимаем не на той дистанции. С нами необходима строгость, строгость неумолимая, не то расшалимся окончательно и вовсе пропадем. С нами только так: перебиваешь наставника — получай по рукам железной линейкой! А его патрон, директор училища — ты знаешь кто — с брезгливой миной слушает наши стоны и неодобрительно так заявляет: «Можно ли обещать мое покровительство и сочувствие литературе, когда она так себя ведет! Теперь не время гладить наших журналистов по голове!». Доподлинные слова, да будет тебе известно. Это называется — мы живем во второй половине девятнадцатого века!
— «Московские ведомости», однако, с Валуевым не церемонятся, а он терпит.
— Каткову можно. Перед ним администрация на задних лапках служит. Он же как дело поставил? Прочь, говорит, от меня, и министры, и цензура, не сметь мешать новому Сусанину! Спасу, говорит, государя от подземной интриги, хоть бы и против его воли спасу, а кто встанет на моем пути, тот неблагонамеренный или даже нерусский! Замечательно тонкая шельма. Знай вопит себе, что держава в опасности, и ничего не боится. Такую взял себе свободу слова. А тут Валуев. Noblesse-то oblige. Прикрикнуть не смеет, однако отваживается нахмуриться. Сам на цыпочках стоит, весь трепещет, а пальчиком все-таки грозит: нельзя же так, дескать, о брате директора попрошу отзываться почтительней, а то я буду просто вынужден выставить за поведение не самый высший балл. О линейке, разумеется, нет и помину, однако Михаил Никифорович, не будь глуп, немедленно растворяет уста и вопит как зарезанный. Ах вот как, вопит, вы тоже заодно с врагами отечества, тоже передались Мраморному дворцу? А Зимний, стало быть, погибай? Ведь кроме Каткова и графа Муравьева некому защитить престол. Умолкни я — и государь с Муравьевым останутся одни против полчища врагов. Так не бывать же этому! Буду, буду обличать, и делайте со мною что хотите. А что с ним поделаешь? Муравьев за него, а двор и дворянство за них обоих. Князь Вяземский бессмертными стихами так определил: «Кто Муравьеву враг, его кто охуждает, России тот не сын и русскому чужой!». Кому охота прослыть подобным чудовищем?