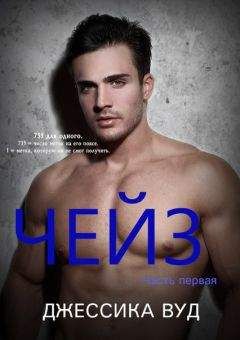Михаил Козаков - Актерская книга
А ведь еще болезни. Я ему как-то тут на днях сказал: «Вот когда прочтешь книгу Рассадина «Спутники», напиши ему». — «Ты пойми, Миша, мне же теперь читать стало очень трудно. С глазами все хуже…» Горе! Горе! Ему же всего шестьдесят пять, а выглядит на все семьдесят.
Ну, как тут не облегчить себе жизнь ВИНОМ? Вот и получается: сначала сто пятьдесят, потом еще сто пятьдесят, потом залакировал сухим, и поехало… Пришел — глядеть страшно. На лице какие-то царапины, на лбу синяк. При этом вымытый, чистый, умный (!), а внутри все, что мне так хорошо известно. У нас с ним даже симптомы одни и те же, даже этапы опьянения похожи: сначала все лучшее активизируется — читаются стихи, рассказываются истории, байки, шутки, импровизации и тому подобное. Потом вылезают обиды, часто прошлые, подспудные, окружающим непонятные, выплескивающиеся почему-то сейчас, оттого реакция на происходящее окружающим кажется неадекватной, пьяной.
«Я раньше пил и делался добрее, легче, а теперь опьянение злое», — признался он.
Ну а потом «уходы из дома» с собиранием нехитрых пожитков, паспорта, бритвы… А вообще-то: «Удержите меня…» И конечно, удерживают. Затем — беспамятство. Ох, как все это мне знакомо и понятно! Вот так мы с ним и поговорили, душу отвели. Потом ушел. Лестница у нас крутая, типа винтовой, только деревянная. Каждый раз страшно — не навернулся бы…»
Дальше запись от 27 августа, уже в Москве, после отъезда из Пярну, обмена стихами (его) и стишками (моими), объятий и провожания нас, садящихся в такси со слезами на глазах…
«…«Затонувший» решили не трогать, а просто потрепались. И получилось на славу! Много говорили об Анатолии Якобсоне, о его книге. Он эмигрировал в Израиль и там покончил с собой. Якобсон был на год моложе меня. Один из последних (теперь их почти нет) фанатиков литературы. Еврейский мальчик с нечесаной головой, уже с порога начинавший громко говорить о литературе. Ученик Самойлова, почитавший Тарковского, Лидию Корнеевну Чуковскую… В увлечении тыкал окурки в винегрет, вертел в руках веревочку («Вот она и завилась в Израиле», — заметил Самойлов). Один из главных издателей «Списков». Грозила каторга. Отъезд. Смерть. На этот раз здорово рассказывала Галя, а Самойлов только что-то добавлял…»
На книге «Голоса за холмами» Самойлов сделал такую надпись:
Ты, Миша, Фауст и Арбенин,
Был Гамлет, будешь и Полоний,
А для меня ты, Миша, ценен
Тем, что всегда не посторонний.
Готов тебя в стихах прославить,
Воздать таланту и уму…
Дай Бог тебе играть и ставить
(Но лучше «что-то», чем «кому»).
И тут же — Регине:
Регина — Миши Министерство
(Тяжелое Мишестроение?) —
Руководит без мини-стервства
И исправляет настроение.
Регине действительно тяжело давалось «мишестроение», а Мише не всегда казалось, что им руководят без «стервства». Я много ставил, пил вино, полагая, что в нем всегда таится вдохновение, часто болел «люмбагой», лежал в больницах, писал там свой «мемуар», а Регина многократно перепечатывала его на машинке, исправляя грамматические и синтаксические ошибки, переводила с английского пьесы (только одну из которых я поставил — «Дорогая, я не слышу, что ты говоришь, когда в ванне течет вода» Роберта Андерсона) и вообще немало намучилась с автором этих воспоминаний. А в 1993 году я по дороге в аэропорт Домодедово умудрился еще влететь в лобовой удар на шоссе и на пять месяцев вообще вышел из строя. Лежал в больнице с переломами и трещиной в тазу, и Регина помогала врачам поставить меня на ноги в буквальном смысле этого слова.
После разрыва с Региной, которая надорвалась со мной, не выдержала, отбыла в Штаты и осталась там навсегда, я обзавелся своей Анной. Уже при ней я снял драму Толстого, а потом и «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта. После трудных съемок в Таллинне я привез Аню к Самойловым, у которых мы прожили тогда одну счастливую неделю. Я читал им дневниковые страницы о том, что произошло у нас с Региной. Историю всех наших предотъездных многолетних отношений они хорошо знали, а вот то, что предшествовало ее неожиданному для всех, а главное — для меня решению затормозиться в Штатах, я как мог пытался осмыслить в этих записях…
«Миша, а ведь это очень похоже на прозу. Своего рода фактоид. Да, Галя? Как тебе показалось?» Галина Ивановна согласилась с мужем, и они вселили в меня надежду: все, что происходит с нами, — не зря. Ведь люди нашего ремесла рассматривают собственную жизнь всего лишь как материал для чего-то более существенного, в этом их всегдашнее утешение, надежда и вера, — авось пригодится! Другое дело, как у кого запишется. У Самойлова в стихах, у другого — например, у Макса Фриша — в документальной лирической повести «Монток». Что вышло у меня, — не знаю. Писал, ничего не сочиняя, лишь записывая за собой, откровенно, от первого лица, делая вторых лиц — реальных живых людей — невольными участниками моего нескромного повествования. Что ж, появился такой «бесстыдный» жанр и утвердился в литературе второй половины двадцатого столетия…
Одно из самых, самых последних писем Д. С. ко мне:
«Понятны и твои грустные размышления о позднем ребеночке. Ребеночек — всегда прекрасно! Учти, что Пашку я породил в твоем возрасте. А он уже вон какой вымахал. По собственному опыту знаю, как радует и омолаживает ребенок в доме, сколько от него свежих впечатлений. Поздние дети спасают нас от старческого эгоцентризма.
Ностальгические нотки твоего письма мне тоже понятны, но это проходит, а когда появится «третий» или «третья», совсем будет другое ощущение жизни. Беспокоит только, что ишачить для денег тебе много приходится. Приучи семью к аскетизму. Убеди, что ты не богатый, знаменитый актер, и просто бедный еврей, да еще и не полный еврей. К какому «трену» приучишь — такой и получишь.
А к общению, конечно, тянет нас, грешных. Но отчасти и по инерции. Можно довольствоваться тремя-четырьмя друзьями. А остальное — факультатив.
Очень больно было читать у тебя в письме о похоронах Арсения (Тарковского. — М. К.). Упокой его, Господь!»
Сплошные прощанья! С друзьями,
Которые вдруг умирают…
Сплошные прощанья! С мечтами,
Которые вдруг увядают…
«Мечты, которые вдруг увядают…»
Никакие «мечты» в нем не увядали. Сколько бы жил — столько бы и писал! И истину он давно познал, но Господь продлевал ему дни. Умер — когда срок пришел, на Пастернаковском вечере. Гердт, бывший на сцене, услышал за кулисами звук упавшей самойловской палки и шум за кулисами, где сидел Давид Самойлович после выступления в ожидании своего друга, чтобы выпить с ним коньячок… Умер легко. «Легкой жизни ты просил у Бога, легкой смерти надобно просить…» — как сказал другой поэт.