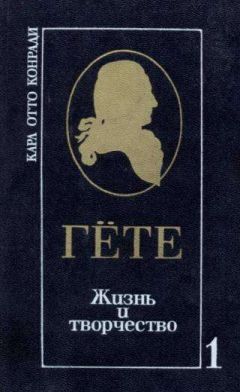Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
В этом письме вся оценка Гёте Жан Полем — восхищение вперемежку с предубеждениями. Жан Поль упрекал классика в том, что он проповедует абстрактный эстетический формализм; по мнению Рихтера, это происходило оттого, что Гёте как человек и художник не стремился к развитию субъективности, исполненной фантазии, и не добивался морального воздействия. Жан Поль пародировал классицистическую эстетику в «Истории моего предисловия ко второму изданию «Квинта Фикслейна»», в вымышленном разговоре между собой и советником искусства Фрайшдёрфером, который происходит по дороге из Гофа в Байрейт.
Фридрих Рихтер сделал принципом своего повествования совершенно раскованную субъективность, которая позволяла ему затрагивать, высказывать и смешивать самые разные вещи. Если для «классического» романа воспитания была характерна строгая привязанность к «внутренней истории» (Фридрих фон Бланкенбург) и повествовательные средства и композиция подчинялись заданной теме, то для Жан Поля роман определялся «широтой его формы, в которой могли быть заключены все другие формы». В «Приготовительной школе эстетики» (1803 и сл.) он спрашивает: «Почему не должно существовать поэтической энциклопедии, поэтической свободы всех поэтических свобод?» Даже для Фридриха Шлегеля, несмотря на его собственную теорию романтического романа, это требование представлялось настолько чрезмерным, что он заметил по поводу буйно разросшейся прозы Жан Поля: мол, у него «местами очень хорошие массы» растворяются «во всеобщем хаосе».
Поздний Гёте, уже размышлявший над «Годами странствий Вильгельма Мейстера», попытался определить положение Жан Поля в литературе в «Примечаниях и исследованиях к «Западно-восточному дивану»»; своеобразие Рихтера он характерным образом обосновал ссылкой на смутные условия времени: «Если по отношению к нашему столь ценимому, равно как и плодовитому, писателю мы признаем, что он […], чтобы оказать влияние на свою эпоху, должен был постоянно намекать на наше раздробленное состояние, столь бесконечно обусловленное нарушением нормальных связей в искусстве, науке, технике, политике в военные и мирные времена, то тем самым приписанные нами ему восточные черты уже в достаточной степени будут обоснованы». В подготовительных работах к автобиографии, оставшейся незавершенной, «Описанию собственной жизни», которую Жан Поль во многих отношениях замышлял как противопоставление «Поэзии и правде», содержатся формулировки, позволяющие понять, в чем он, оценивая по прошествии времени пройденный путь, видел свое отличие от чисто эстетическо-художественного уровня: «Гёте в своих путешествиях все воспринимает определенно, я же не так: у меня все романтически расплывчато. Индивидуальный момент в Фикслейне всего лишь создание искусства, он путешествует по городам, но ничего не видит в них, только чудесную местность, которая поддерживает романтическое настроение, или хорошую музыку, человека или книгу. Хотя он знает (и видит) все индивидуальные проявления жизни (например, когда путешествует), но эти подробности его не интересуют, и он о них забывает».
В 1795 году возник острый конфликт с Гердером, в особенности с Каролиной. Герцог в свое время обещал позаботиться о расходах на образование детей суперинтенданта. Неожиданно Каролина запросила большую сумму денег сразу — после того как, не уведомив об этом заранее, уже поместила своих детей в учебные заведения за границей. Гёте 30 октября 1795 года пишет Каролине подробное письмо: в резких выражениях он указывал на недопустимо требовательный тон ее письма и на необоснованность притязаний, но в конце выражал готовность дружеского участия и помощи: «Я знаю, что за выполнение возможного не питают благодарности к тому, от которого требовали невозможного; но это не помешает мне сделать для Вас и Ваших все, что в моих силах» (XIII, 85). Дружба с Гердером давно дала трещину. В «Анналах» за 1795 год Гёте писал: «Гердер чувствует себя задетым некоторым моим отдалением, которое становится все более заметным, и ничем нельзя помочь возникающему из этого неудовлетворению. Его антипатия к философии Канта, а отсюда к Йенской академии все возрастала, в то время как я благодаря отношениям с Шиллером все больше с ними срастался. Поэтому бесполезной была любая попытка восстановить прежнюю дружбу». Между Шиллером и Гердером тоже не было единогласия. Тем не менее в «Орах» в 1796 году появился диалог Гердера «Идуна», в котором обсуждался вопрос о значении скандинавской мифологии для поэзии («Что такое эта мифология? Откуда она? В какой мере она нас касается? Чем она может быть нам полезна?»); здесь отчетливо чувствовался отказ от признания образцовости греческой античности и преимущественного использования содержащегося там мифологического арсенала и содержалось указание на современное и отечественное: «Я не хочу признавать ничего другого, как только то, что каждый поэт или рассказчик может черпать из достояния чужого, далекого или отжившего народа, то есть он может использовать богатства, которые ему предоставляет этот народ и его время». Шиллер уже в письме от 4 ноября 1795 года оспаривал мысль Гердера о том, «что поэзия порождается жизнью, временем, действительностью» (Шиллер, VIII, 516). Мысли Гердера об отечественном как необходимой почве поэзии не нашли сочувствия и не могли устоять перед почитанием классической древности. Он в противоположность теоретикам и практикам идеалистического учения об искусстве и красоте оставался верным тому, что еще в 1773 году в «Переписке об Оссиане» назвал важной чертой «поэтического творчества древних и диких народов», тому, что «порождено непосредственной действительностью, непосредственной взволнованностью чувств и воображения и в то же время в нем содержится множество неожиданных переходов и скачков».[55] Бессильным протестом против Канта (при всем уважении к философу), а также против Шиллера выглядит «Каллигона» (1800), где обстоятельно и в то же время вымученно он пытается оспорить кантовское определение прекрасного как «предмета наслаждения, свободного от всякого интереса»,[56] и против шиллеровского понятия игры в эстетике.
До самой смерти Гердера (18 декабря 1803 г.) общение с ним, видимо, доставляло мало удовольствия. Канцлер Мюллер сообщает со слов Гёте, что целых три года они не встречались друг с другом. «Однажды они снова встретились в Йене; Гёте первым посетил Гердера; они говорили долго, и все же, заметил Гёте, «я не осмеливаюсь поведать об исходе этого разговора»» (из беседы с канцлером Мюллером 8 июня 1821 года). Страдающий Гердер, должно быть, ранил Гёте до самых глубин со свойственной ему едкой иронией, возможно, сказал нечто подобное тому, что нам известно из другого источника: однажды Гёте якобы читал свою «Внебрачную дочь» в кругу йенских профессоров. Гердер до самого конца не проронил ни слова. «Ну, старина, — обратился к нему Гёте, — ты ничего не говоришь, неужели тебе совсем не понравилась пьеса? — О, напротив, — ответил Гердер, — но все же мне больше по душе твой внебрачный сын, чем «Внебрачная дочь»»… Все горше жилось Гердеру последние годы за высокой крышей церкви, он страдал от недостатка творческой продуктивности, наталкивался на ограниченность придворного мира, в который Гёте внешне так уверенно интегрировался, и охотно предавался брюзжанию, поддерживаемый своей женой и Кнебелем, по поводу вновь выходивших произведений бывшего страсбургского «ученика». На его похороны Гёте не приехал из Йены. «Я дал себе зарок не видеть в гробу ни Гердера, ни Шиллера, ни вдовствующей герцогини Амалии. Смерть не самый лучший портретист… Церемонии, сопровождающие смерть, не то, что я люблю», — свидетельствовал со слов Гёте И. Д. Фальк.