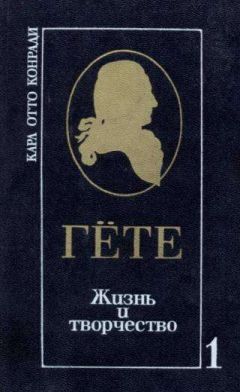Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
Шлегели в 90-е годы вместе с Вакенродером, Тиком и Фридрихом фон Харденбергом, который выступал под псевдонимом Новалис, принадлежат к поколению «ранних романтиков». Так утверждает история литературы, стремящаяся все систематизировать и классифицировать. При том, что тенденции «Атенея» явно расходились с направлением «Пропилей», все-таки нельзя упускать из виду, что Шлегели в ранние годы испытывали такой же восторг перед греческой античностью, как и Винкельман и Гёте, и образцовость античного искусства для них также не подлежала сомнению. В дальнейшем размышления об искусстве, в особенности Фридриха Шлегеля и Харденберга, пошли в ином направлении, и свои представления о новой современной поэзии они уже не связывали с античностью как с образцом, на который следовало ориентироваться. Но на рубеже веков «классиков» и «ранних романтиков» разделяла не столь глубокая пропасть, как те или иные кружки, нападавшие друг на друга, вроде Коцебу и его сторонников, который, к примеру, высмеял в своем памфлете «Гиперборейский осел, или Нынешнее образование» «ранний романтизм» Фридриха Шлегеля, направив против него каскады цитат из его же сверхспекулятивных и головоломных построений. Сложившиеся представления о соотношении группировок в 90-е годы и различиях во взглядах одних и других давно требуют пересмотра. Как обстояло с фронтами на деле, иллюстрирует замечание Шиллера, который, как известно, давно не ладил со Шлегелями: «Школа Шлегеля и Тика становится все более и более пустой и карикатурной, ее антиподы — все более и более пошлыми и жалкими, а публика колеблется между этими двумя направлениями» (В. фон Гумбольдту, 17 февраля 1803 г. — Шиллер, VIII, 829). В стороне от тех и других находились «классики». В начале нового столетия, правда, резче обозначились и разногласия между Гёте и «ранними романтиками». Решающую роль здесь сыграло обращение последних к христианско-католическому искусству. В статье 1805 года о Винкельмане со всей отчетливостью выражен протест Гёте. После 1808 года он изредка писал еще Августу Шлегелю, и единственное письмо было отправлено к Фридриху. Неисправимый язычник окончательно размежевался с романтиками в 1831 году: «Братья Шлегели» «наделали в искусстве и литературе много зла», а Фридрих Шлегель «задохся, пережевывая жвачку моральных и религиозных абсурдов» (Цельтеру, 20 октября 1831 г. — XIII, 519–520).
Говоря яснее [и, конечно, упрощенно. — К. К.]: ничем не сдерживаемая радикальность — вот что было определяющей чертой молодого поколения в целом. Она выражалась, разумеется, не в политических акциях. В послереволюционный период в стране, которая хотя и нуждалась в решительных общественных преобразованиях, но в которой они не могли быть осуществлены, это поколение с сознательной решительностью, казалось, хотело испробовать и осуществить возможности и способности человека в его мыслях, чувствах, переживаниях, вплоть до утверждения их ради них самих, так, как если бы обоснование в «Я» было единственно возможным осуществлением в данных общественных условиях. Один открывал перед другим только все большие возможности для своевольно-свободного человека, часто имея в виду возможное государство. Это было подобно завоеванию мира для свободно действующего субъекта. Оно осуществлялось различными способами: у Фридриха Шлегеля, у Тика и еще у Вакенродера в его безудержной жажде наслаждения искусством. Но сразу же обнаруживалась проблематичность подобной установки, беспочвенность и шаткость «Я»: в «Вильяме Ловеле» Тика, в «Берлингере» Вакенродера и в дальнейшем жизненном пути самого Фридриха Шлегеля. Радикально направленное бытие человека с необходимостью несло в себе разрушающую силу — это доказал Вильям Ловель, не в меньшей степени Рокероль Жан Поля, в конечном счете это заставляло искать связи надличностного характера, церковные или другие сообщества.
В 1796 году Жан Поль снова приехал в Веймар и задержался на длительное время. Уже публикация «Геспера» в 1795 году сделала его знаменитым. Еще до своего приезда он послал Гёте, которым восхищался, «Невидимую ложу» (1793) и «Геспера, или 45 дней собачьей почты» (27 марта 1794 г. и 4 июня 1795 г.), но ответа он так и не дождался. Шиллер зачислил «Геспера» в разряд трагелафов (письмо Гёте от 12 июня 1795 г.): Гёте понравился этот намек на полукозла-полуоленя, этих мифических существ древности (письмо Шиллеру от 18 июня 1795 г.). Оба находили в «диковинном произведении» (Гёте) кое-что достойное восхищения — «воображение и настроение», отчаянные идеи (Шиллер), но также и недостатки; Гёте считал, что автору нужно «очистить свой вкус» (Шиллеру, 18 июня 1795 г. — XIII, 75), это означало не что иное, как требование большей ясности, обозримости и порядка в расплывающемся в безудержной фантазии повествовании. Авторы ксений высмеивали «китайца» в Риме:
Видел я в Риме китайца; его подавляли строенья
Древних и новых времен тяжестью мощной своей…
(Перевод С. Ошерова — 1, 239)
Это была расплата за нелестное высказывание Жан Поля о холодности и суровости великих веймарцев. Но презрительные замечания о своевольном писателе на этом не прекратились. Для Жан Поля решающее значение имел визит к Гёте 17 июня 1796 года. Приехав в Веймар, он попал в очень сложную ситуацию. С давних пор он мечтал о личном знакомстве с Гердером и лишь теперь узнал, какое взаимное отчуждение царило в хваленом Веймаре. От Гердера он услышал мало хорошего о Гёте: отношения между бывшими друзьями дали трещину. Жан Поль переступал порог дома на Фрауэнплане с надеждами и предрассудками, они должны были либо развеяться, либо подтвердиться. Его отношение к Гёте определялось тремя моментами: восхищение его творчеством; жалобы семейства Гердера на холодного, эгоцентричного, замкнутого в себе тайного советника и образ человека, сконструированного в собственных романах Жан Поля, в которых «возвышенные личности», исполненные сострадания и «всеобщей любви», противостояли эгоцентрикам, замкнувшимся в поверхностном эстетизме. В большом письме другу Кристиану Отто, через день после обеда у Гёте, Жан Поль рассказал о своих впечатлениях (18 июня 1796 г.). Сначала разочарование в Веймаре: «Уже на второй день я отбросил глупое предубеждение о больших писателях, будто бы они не такие, как все люди; здесь каждому известно, что они такие же, как и все земное, которое издалека кажется плывущей по небу светящейся луной, но которое, однако, когда встанешь на него ногами, состоит из boue de Paris[54] и реденькой зелени без золотого нимба. Суждения Гердера, Виланда, Гёте и прочих оспариваются здесь, как и всякие другие суждения, к тому же надо причислить, что три столпа нашей литературы избегают друг друга. Одним словом, я больше не дурак. Теперь я не буду уже склоняться в страхе ни перед одним великим человеком, только перед самым наидобродетельным. К Гёте я шел все же с робостью. Остгеймы, да и все другие, говорили, что он холоден ко всем людям и ко всему на земле. Остгейм говорил, что он ничем уже не восхищается, даже и самим собой, каждое слово его ровно ледяная глыба, в особенности же он холоден к чужим, которых редко допускает до себя — в нем застыла какая-то черствая гордость уроженца имперского города; только искусство, кажется, еще способно разогреть его… Я шел без теплоты, из одного любопытства. Его дом — дворец — поражает, единственный в Веймаре в итальянском вкусе, с этакими лестницами, целый пантеон картин и статуй, леденящий страх сжимает грудь — наконец вышел бог, холоден, односложен, однотонен; Кнебель, например, говорит, что французы вступают в Рим. «Гм», — произносит бог. В облике его чувствуется энергическое и страстное, взгляд светится (но без приятного огня). Скоро шампанское и разговоры об искусстве, публике и прочих предметах разгорячили его — и тут мы увидели наконец Гёте. Он говорит не так гладко и цветисто, как Гердер, зато весьма определенно и спокойно. Напоследок он прочел нам […] великолепное, еще не напечатанное стихотворение, и тут вспыхнувшее в сердце пламя растопило ледяную кору, и он пожал руку потрясенному Жан Полю. На прощание он снова протянул мне руку и звал к себе еще. Он считает, что его поэтический путь закончен. Клянусь богом, мы все же полюбим друг друга […]. А еще он ужасно много жрет; одет же весьма и весьма изысканно».