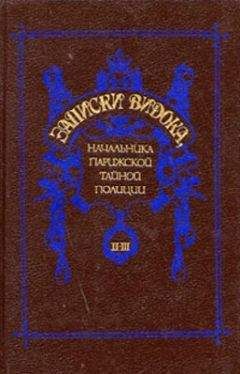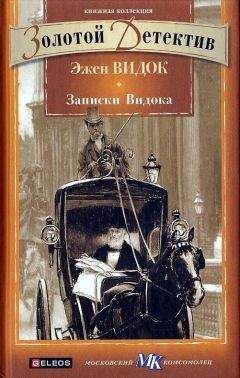Эжен-Франсуа Видок - Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. Том 1
Я жил в улице Тиктон, у кожевника по имени Буен, который за известную плату согласился взять на себя паспорт и уступить его мне. Описание его наружности в паспорте совершенно подходило ко мне: как и я же, он был белокур, имел голубые глаза, румяное лицо, и, по странному стечению обстоятельств, на его верхней губе с правой стороны ясно обозначался небольшой шрам. Только ростом он был немного ниже меня, но чтобы казаться повыше, в тот день, когда комиссар должен был мерять его, он предполагал положить колоды две-три карт в сапоги. Буен действительно прибегнул к этой уловке, и хотя я обладал странной способностью уменьшать свой рост, когда мне угодно, на четыре — на пять пальцев, но мне не приходилось бы этого делать при осмотре. Завладев документом, я уже радовался, что поставил себя в безопасность, как вдруг Буен (у которого я жил всего неделю) доверил мне тайну, которая привела меня в ужас: оказалось, что человек этот давно занимался фабрикацией фальшивой монеты и, чтобы дать мне образчик своего искусства, он при мне отчеканил пятифранковую монету, которую жена его сбыла в тот же день. Легко представить себе, как подействовала на меня тайна Буена.
Во-первых, я вывел из всего этого заключение, что того и гляди его паспорт окажется плохой рекомендацией для меня в глазах жандармов, — ясно, что благодаря своему плохому ремеслу, Буен рано или поздно попадется и будет привлечен к ответственности. Дело было рискованное, и мне вовсе не предстояло никакой выгоды быть принятым за него. Но это еще не все: ввиду страшной подозрительности, которую всегда внушает судьям и общественному мнению всякий беглый каторжник, очень могло случиться, что если Буен будет обвиняться как фальшивый монетчик, то и меня, естественно, будут считать его сообщником. Правосудие так часто заблуждалось! Уж раз осужденный совершенно безвинно, мог ли я ручаться, что то же самое не случится во второй раз? Преступление, которое мне вменили совершенно несправедливо, признав меня виновным в подлоге, подходило под категорию преступлений, которые совершал Буен. Я уже видел себя изнемогающим под тяжестью улик и подозрений до такой степени убедительных, что мой защитник, стыдясь защищать меня, сочтет нужным ходатайствовать для меня о снисхождении и милосердии судей. Мне чудилось, что я слышу произнесение смертного приговора. Моя тревога, мои опасения удвоились, когда я узнал, что у Буена есть сообщник: это был лекарь, некто Террье, который часто приходил к нему в дом. У этого человека было лицо висельника; один взгляд на эту физиономию способен был поставить на ноги всю полицию; не зная его, я был уверен, что, проследив за ним, невозможно было не открыть какого-нибудь преступления или покушения. Словом, он был плохой вывеской для всякого, кто показался бы с ним где бы то ни было. Убежденный, что его посещения могут иметь печальные последствия для всех нас, я посоветовал Буену бросить ремесло, столь опасное для всякого, кто им занимается; но никакие резоны не могли убедить его, все что я мог от него добиться — это прекратить свое опасное ремесло, по крайней мере на то время, пока я у него; это однако не помешало мне на другой же день застать его за фабрикацией своих монет. Тогда я счел нужным обратиться к его сообщнику: я в самых ярких красках изобразил ему опасности, которым они добровольно подвергались. «Я вижу, — насмешливо ответил мне доктор, — что вы просто-напросто мокрая курица. Ну если бы даже нас и открыли — так что ж из этого? И без нас мало ли кувыркались на Гревской площади; да и к тому же мы вовсе до этого и не дойдем; слава Богу, вот уж пятнадцать лет как я спускаю свои франковики, а никто и не подозревает хоть что-нибудь за мной нехорошее. Будем жить пока живется. Впрочем, любезнейший, — прибавил он сердито, — я посоветовал бы вам не совать нос в чужие дела».
Разговор принимал такой оборот, что я счел излишним продолжать его и решился лучше держать ухо востро. Более нежели когда-либо я чувствовал необходимость как можно скорее покинуть Париж. Это было во вторник; мне хотелось уехать на другой день; но, получив уведомление, что Аннетта будет выпущена на свободу в конце недели, я решился отложить свой отъезд до ее освобождения. Но в пятницу, часов около трех, я вдруг услышал легкий стук во входную дверь. Поздний час, осторожность, с которой постучали, — словом, все возбудило во мне предчувствие, что пришли меня арестовать.
Ни слова не сказав Буену, я вышел на площадку лестницы, стремглав взлетел наверх, схватился за водосточную трубу, влез на крышу и приютился позади трубы.
Мои предчувствия не обманули меня; в одну минуту весь дом наполнился полицейскими агентами, которые обшарили все углы. Удивленные тем, что не нашли меня, и догадавшись по моей одежде, которая тут же лежала на помятой постели, что я бежал в одной рубашке, вследствие чего не мог далеко убежать, — они вывели заключение, что я, должно быть, скрылся не обычным путем. За неимением жандармов, которых можно было бы послать на поиски за мной, призвали кровельщиков, которые обыскали всю крышу; я был открыт и схвачен, не имея возможности сопротивляться, так как дело происходило на крыше и единственное средство спастись было бы попытать сальто-мортале с опасностью сломать шею. Арест мой произошел весьма обыкновенно; меня привели в префектуру, где г-н Анри подвергнул меня допросу. Он отлично помнил о предложении, сделанном мною несколько месяцев тому назад, и поэтому обещал мне, по мере своих сил, смягчить мое положение. Несмотря на это, меня все-таки препроводили в Форс, а оттуда и в Бисетр, где я должен был ожидать следующего отправления арестантской партии.
Глава двадцать первая
Мне предлагают бежать. — Новая попытка перед г-ном Анри. — Моя сделка с полицией. — Коко-Лакур. — Шайка воров. — Инспектор под замком. — Неудавшееся бегство.
Я начинал чувствовать отвращение к побегам и к той свободе, которую они доставляли; мне вовсе не хотелось вернуться в галеры, но во всяком случае я уже предпочитал жить в Тулоне, нежели жить в Париже и подчиняться таким негодяям, как Шевалье, Блонди, Дюлюк, Сен-Жермен и подобные им молодцы. Поразмыслив, я решил, что придется примириться со своей судьбой, как вдруг некоторые из галерников (народ, с которым я имел случай слишком хорошо познакомиться) предложили мне помочь им в их попытке удрать через двор «добрых бедняков». В другое время этот план пришелся бы мне по душе; я не отверг его, но отнесся к нему критически как человек опытный, знакомый с почвой, желая сохранить за собой то обаяние, ту репутацию, которые приобрел благодаря своим действительным успехам или тем подвигам, которые мне приписывали. Я знал, что если живешь среди мошенников, то всегда выгодно слыть между ними за самого отчаянного, самого отъявленного и ловкого злодея: такова была моя репутация, прочно установившаяся. Всюду, где только собиралось четыре арестанта, непременно трое из них слышали обо мне. Со времени существования галерников не было ни одного подвига, которого бы не связали с моим именем. Я был среди них генералом, которому приписывали все подвиги его солдат: конечно, при этом не могли упомянуть о крепостях, которые я взял приступом, но не было ни одного такого тюремщика, бдительность которого я не обманул бы, ни таких оков, которые я не расторгнул бы, ни такой стены, которую мне не удалось бы пробить. Я также славился своим мужеством и искусством, и существовало мнение, что я способен пожертвовать собою в случае надобности. В Бресте, в Тулоне, в Рошфоре, в Антверпене, — словом, повсюду я пользовался среди мошенников славой самого ловкого и хитрого негодяя. Самые испорченные добивались моей дружбы, думая, что они все-таки могут от меня кое-чему научиться, а новички с разинутыми ртами слушали каждое мое слово, как поучение, которым можно воспользоваться впоследствии.