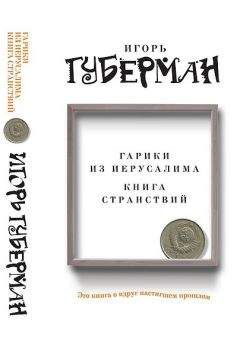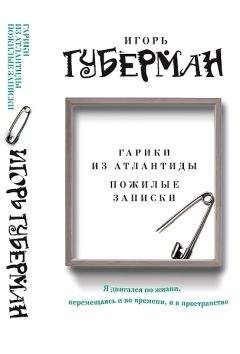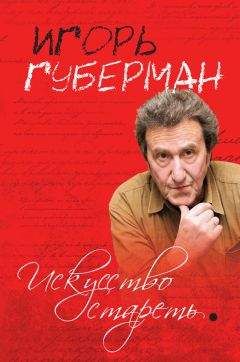Игорь Губерман - Книга странствий
А начавши писать рассказы и стихи, уже таскал я всюду записную книжку, многое заимствуя из устного застольного творчества. О почерке своём всё время помня, тщательно выписывал я какое-нибудь ключевое слово в услышанном, так что одну-две записи из десяти мог разобрать наутро. А бывало и такое, что врезалось в память навсегда. В начале шестидесятых я услышал, например, гениальное двустишие мне неизвестной восьмилетней девочки - его я помню посейчас:
У верблюда два горба,
потому что жизнь - борьба.
А за столом тогда было записывать не просто неудобно, а скорей даже опасно для репутации - никто из самых забубённых собутыльников не жаждал, чтоб фиксировались его устные речения. Поэтому повадился я бегать как бы по нужде, и там коряво, но записывал. При обыске и аресте забрали у меня большую гору записных книжек - я о них жалею до сих пор. Никто в них ничего не прочитает, ведь менты не знали, что я не учился в первом классе. А недавно мне попался коллективный сборник фантастических рассказов, был там и мой, одну историю я из него прочёл как заново, уже не помня напрочь, где услышал. Ясно только, что её мне излагал завзятый алкоголик.
По России ходит, всюду пребывая одновременно, некий невидимый тип, которого зовут Аркадий Иванович. Он появляется везде, где люди выпивают. Аккуратно и разборчиво он пишет в записную книжку, кто и сколько выпил. Это ему нужно потому, что утром он (опять-таки незримо, ибо изнутри) приходит к каждому и требует свою долю от вчерашнего. Общается он непосредственно с душой любого выпивохи, понукая утром выпить эту долю. Ибо достаётся она внутреннему Аркадию Ивановичу, а должник испытывает облегчение и даже некое блаженство: исчезает полностью плохое самочувствие от выпитого накануне лишка. Этот высокий миф облагородил, без сомнения, нашу потребность опохмелиться после вчерашнего.
И ещё одна там есть забавная история. Один матёрый журналист спросил у своего такого же коллеги, не читал ли тот его вчерашнюю статью. На что коллега, оскорбившись, заявил:
- Вы хулиган, я Льва Толстого не читал!
В те годы я подряд и безо всякого стыда вставлял услышанное мной во всё, что я писал. Я и сейчас так делаю, хотя порой бывает стыдно. Я тогда борюсь с собой и непременно побеждаю. Ведь, как давным-давно уже сказал философ Эпиктет в беседе с Гераклитом: люди с совестью и люди без неё - все поступают одинаково, только люди с совестью вдобавок мучаются от содеянного. Но пишущий да обрящет, как говорил Нерон, отравляя писателей.
Рассказов я тогда штук десять написал. И жалко, что я некогда их утопил в помойном ведре вместе со всей любовной лирикой и письмами ответами из журнальных редакций, где советовали мне работать над собой и читать побольше классиков.
А я читал их и читаю посейчас. Настолько вдумчиво, что, ежели мне надо, с лёгкостью цитирую при случае по памяти. И никогда потом цитату в тексте не ищу, чтобы проверить, потому что знаю точно: её там нет. Однако же по звуку и по содержанию она вполне могла там быть, поэтому я привожу её, не сомневаясь и не мучаясь раскаяньем. Когда-то у меня приятель был, заметный публицист из самиздата. Он по пьянке мне признался грустно, что давно уже ничего не читает - просто не в состоянии прочесть больше страницы любого текста - тут же его тяиет возражать и дискутировать.
Я же лично - я не только письменные, я и устные почитаю очень тексты, потому что человеческая наша дивная натура сплошь и рядом в них просвечивает ярко и мгновенно. Мне недавно позвонила родственница (я её не видел отродясь и, даст Бог, не увижу), чтобы похвалить меня за помощь одной другой родственнице:
- Вы абсолютно правы, - с жаром сказала она, - и мой пожизненный девиз такой же: отдавать и отдавать! Вот у меня в Америке есть брат, так он мне постоянно помогает.
Как-то в одном американском городе у меня был домашний концерт. Публики собралось много, но была она какая-то вся снулая, надменно вялая, и моя приятельница (привезшая меня туда) очень за меня страдала. Но в антракте вдруг увидела она тесно сгрудившуюся кучку женщин и услышала слова:
- Это потрясающе! Он просто потрясающий! Он - феномен!
Приятно удавившись и обрадовавшись, моя приятельница подошла поближе. Речь держала яркая блондинка очень средней моложавости и выговаривала с пафосом последние слова:
- Он гений! И я только у него делаю по пятницам причёску!
Люди постоянно и великодушно подкидывают щепки в костёр моего восхищённого изумления перед великим разнообразием наших душевных проявлений. Как-то после выступления в Москве ко мне вальяжно и величественно подошла очень корпулентная женщина и, сладко улыбаясь, протянула мне столь же пухлую книгу.
- Я жена поэта Ерухимовича, - с ласковой интимностью сказала она, - он так любит ваше творчество, он даже вам немного подражает. Это его книга, напишите ему здесь какие-нибудь тёплые слова.
Я наугад раскрыл книжку и тихо ахнул.
- Это не подражания, - сказал я сдержанно, - это просто мои четверостишия.
- Вот видите, - нежно ответила жена поэта Ерухимовича, - он так любит ваши стихи, что они ему как свои. Напишите ему тёплые слова!
Я бы ему лучше вслух сказал, подумал я, но взял себя в руки и с елейной вежливостью отказался.
Мог ли я не записать такое? А дивные и грустные слова той пожилой женщины, что как-то в Ашкелоне специально пришла за сцену, чтобы рассказать, как она скучает по родному городу Виннице? И по еде, которую она там ела. А разве здешняя хуже? - спросил я. И женщина сказала, оживившись:
- Что вы! Все молочные продукты там у нас намного и вкуснее, и нежней! И намного дешевле!
После чего запнулась и добавила:
- Только немного радиоактивные.
Художник Миша Туровский мне рассказывал, как на его какой-то выставке подошёл к нему изысканный интеллигент, с невыразимой упоённостью задавший ему чисто художественный вопрос:
- Это у вас пейзаж или акварель?
От подобных фраз и историй у меня теплеет где-то глубоко внутри (душа у меня есть), и освежается неизбывная любовь и жалость к человечеству. Я б собирал, ни на что не отвлекаясь, целые сборники таких нечаянных речений, и поверьте - это было бы не менее интересно, чем высказывания знаменитых, которые повсюду издаются и читаются взахлёб.
А случаи, которые сверкающими блёстками так украшают декорации нашего земного прозябания? В любом почти застольном разговоре вдруг они мелькают успевай записывать, надеешься на память, но наутро... Пить, конечно, надо было меньше. Вот почему я так ценю любые записные книжки. То, что смог я разобрать в своих, и составляет эту мало связную главу.