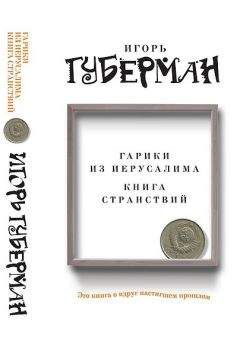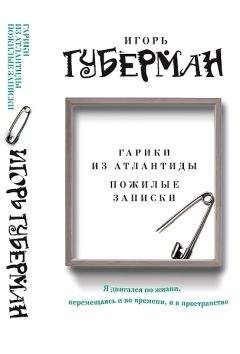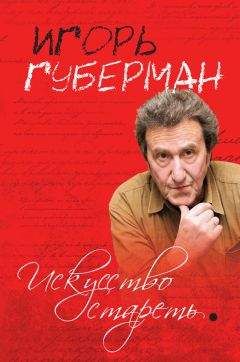Игорь Губерман - Книга странствий
А насчёт того, чтоб не болтать помногу - это вообще не для меня. Я раскрываю рот только по делу, и на говорение само я трачу ровно столько времени, сколько потребно для донесения мысли. Да, иногда путь донесения её - весьма окружный, но зато она полнее постигается. И то же самое касается болтания с самим собой - мы так устроены природой, что по мере говорения рождаются новые мысли, а мудрец Декарт ещё когда заметил справедливо, что я мыслю - следовательно, существую. И вряд ли следует на старости лет искусственно лишать себя этого благотворного ощущения.
Я, кстати, в перечне, что выше мной приведен, решил сначала упустить обязательство не прислушиваться к глупым сплетням, болтовне прислуги и так далее. Но тут подумал: а к чему же, как не к этому прислушиваться? Ибо сплетня (глупая она или не глупая - решает время) - это кусочек бытового мифа, миф - это элемент картины мира, как же можно жить на свете, ничего о современности не зная? Тут у Свифта просто нелады с мышлением какие-то.
Это действительно смешно и глупо - хвастаться на склоне лет былой силой, красотой, успехом у женщин и прочими радостями былого счастья. Хвастаться вообще зазорно и неприлично. Но в прошлом было многое настолько хорошо и даже ослепительно порой, что замолчать такое - грех неблагодарности Фортуне. И нисколько этим хвастаться не надо, надо просто рассказать, поскольку всё, что интересно и приятно, собеседник (если он заслуживает этого) узнает с радостью и пользой для души. У кого-то прочитал я дивную идею, что чем люди старше, тем они, оказывается, лучше были, когда были моложе. Я копаюсь в памяти и нахожу, что это правда. Как же мне не рассказать о новых находках?
Не внимать коварной лести следует не только в старости, и я с этим вполне согласен. Только как отличить заведомую и неправедную лесть от похвалы, заслуженной и справедливой? Одним и безупречным способом: хвала незримо и неслышно совпадает с тем, что думаешь о себе ты сам, и пустую лесть поэтому мы распознаем сразу и легко. Не надо заведомо плохо относиться к лести (в этом была бы истинно пагубная подозрительность), а стоит в ней расслышать воздаяние твоим достоинствам, которые и в самом деле есть. К тому же льстящий собеседник может быть и проницательней тебя (а почему бы нет?), и хвалит нечто, что ты сам в себе не в силах в полной мере оценить. Разумная хвала необходима человеку, как дыхание, а просто лесть конечно, пошлая забава. Но на то и опыт жизни, чтобы мы умели безошибочно их различить.
А самоуверенность с самодовольством - безусловно пакостные и опасные черты, но только в молодом и зрелом возрасте. А в старости они необходимы, ибо кошмарно трудно без них жить. Выказывать, конечно, их не следует, однако именно они - те последние корни, что ещё поят скудным соком старческое прозябание. И жалко тех, в ком эти корни усыхают. Лично я в себе их прячу, но благословляю и лелею. Тут, по-моему, ошибся или недодумал Свифт.
Всё это рассмотрев и обсудив, я безмятежно окунулся в свою светлую и непогрешимую старость. И, ни минуты не кручинясь, признаю, что это омерзительный сезон. А если кто-то думает иначе, пусть он позвонит, и я легко могу его разубедить.
Ах, люди, люди...
Всегда ли люди сами слышат, что они говорят? По-моему, далеко не всегда. В одном немецком городе ко мне после концерта подошёл очень пожилой мужчина и молча протянул папку со стишками. Я её покорно и привычно взял и начал всовывать в сумку, когда старик мне требовательно и категорически сказал, что он уже весьма немолод и поэтому настаивает, чтобы я его стихи прочёл немедленно при нём. Я водрузил очки и наскоро пробежал глазами его творения. Опять чистейший мне попался графоман, но с чувством юмора, и я был рад ему сказать, что его стишки (четверостишия, конечно, он поэтому и выбрал меня в жертву) могут пригодиться в дружеском застолье, но тратить деньги на их напечатание я ему просто не советую. Старик обиделся и помрачнел.
- А между прочим, - гордо и заносчиво сказал он мне, - я кандидат наук и был заведующим сектором в большом научно-исследовательском институте!
- Что же вы уехали от такой хорошей работы? - с чисто машинальной вежливостью спросил я.
Старик приосанился и важно пояснил:
- Я уехал от антисемитизма!
- В чём он выразился лично к вам? - спросил я (завсектором всё-таки).
Старик мне с пылом объяснил:
- Смотрите-ка, они мне в шестьдесят пятом году объявили строгий выговор. Я им в семьдесят четвёртом году говорю: отмените выговор, товарищи, уже прошло ведь столько лет. А они мне отвечают: нет, уважаемый, ещё рано отменять ваш выговор. Тогда я на них плюнул и в девяносто первом году уехал.
Я сумел не рассмеяться, но так выразительно задёргал ногами, что старик великодушно отпустил меня в сортир. И там немедленно я записал услышанное.
Когда же начал я таскать в кармане записную книжку для таких удач? Первую - в семнадцать лет, по-моему. Я был тогда прыщав, застенчив до наглости и одомашнен, как таракан. Всё время я читал, и всё прочитанное безо всякого разбора западало в душу. Не было в те годы никакого у меня отборочного вкуса, а по правде говоря, его и посейчас у меня нету. Помирал же я, буквально от восторга помирал - читая стихи Есенина. Поэтому я приобрёл себе блокнот и на первой же странице крупно написал: "Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок". Потом он долго у меня валялся в ящике стола, я натыкался на него и снова клал туда же. Так что первая записная книжка появилась много позже. Всё услышанное, что казалось мне достойным сохранения, я ревностно туда писал. Но вот беда: я не учился в первом классе и чистописание не проходил. Неясно почему, но мама отдала меня в школу сразу во второй класс. Я помню, мне устроили экзамен, я был должен под диктовку написать несколько фраз. А я забыл, как пишется заглавная буква "д", и горько заплакал. Во второй класс меня всё же приняли, но пробел в образовании сказался впоследствии на всей моей жизни: у меня чудовищный почерк, а на закате неудержимо хочется выпить. Да, так вот о почерке - я много записывал, но почти никогда не мог понять, что именно занёс я на карманные скрижали. Отчего периодически отчаивался и бросал попытки зафиксировать прекрасные мгновения.
А начавши писать рассказы и стихи, уже таскал я всюду записную книжку, многое заимствуя из устного застольного творчества. О почерке своём всё время помня, тщательно выписывал я какое-нибудь ключевое слово в услышанном, так что одну-две записи из десяти мог разобрать наутро. А бывало и такое, что врезалось в память навсегда. В начале шестидесятых я услышал, например, гениальное двустишие мне неизвестной восьмилетней девочки - его я помню посейчас: