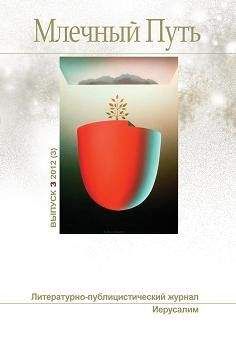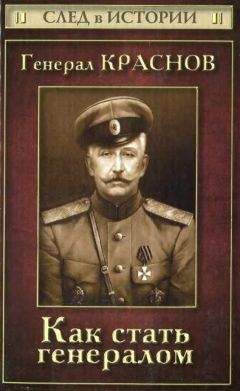Станислав Лем - Черное и белое (сборник)
То, что я читаю, мне или нравится, или не нравится. Нравится мне это или не нравится, я понимаю сразу. Но я часто не знаю, почему это так или иначе. Если бы мне нужно было написать рецензию на прочитанное, я должен был бы основательно подумать, проанализировать текст и свои ощущения, но я очень хорошо знаю, что с этим дело обстоит так, как с эротическим влечением, в особенности с большой любовью. Никто сильно не влюбляется потому, что он производит антропометрические измерения женщины, которая привлекла его внимание, никто не дает ей заполнить анкеты, не расспрашивает о спортивных рекордах и не исследует ее интеллект при помощи тестов.
После такого эмоционального отступления можно уверенно переходить к повестке дня, так как в противоположность литературной критике любовной критики не существует. Хотя существуют руководства по сексологии, но к любви они имеют такое же отношение, как и справочники по сборке радиоприемника к музыке Баха, которую можно послушать по радио.
Редкий читатель, который продержался до этого места моего предисловия, будь осторожен! Покупатель действует на собственный риск! (Caveat emptor!) Не верь тому, что я пылаю любовью ко всему, что поместил в эту книгу. Я также не собираюсь рекламировать свой выбор. Если по-честному, я могу сказать лишь следующее: далеко обходя Гималаи бессмыслицы, называемой научной фантастикой, я собрал очень разноплановые произведения, более или менее «фантастические» (эксперты вовсе не едины во мнении, где проходит граница между «фантастической» и «нефантастической» литературой), и в качестве критерия, которым я руководствовался, я могу назвать только один, который для меня не подлежит сомнению. Я выбрал то, что мне понравилось, по тем причинам, которые я не вполне мог бы объяснить. В качестве гарантии того, что так и было на самом деле, должно быть достаточно моего честного слова.
Вена, ноябрь 1984 г.
V
Станислав Лем вспоминает
В стране памяти
Мне очень тяжело писать о Львове, поскольку сложно передать словами нити, которые связывают меня с этим навсегда утраченным городом. Я родился в 1921 году в доме номер 4 по улице Браеровской, в котором до моего появления на свет умерли мои дедушка и бабушка. В свою очередь, мы покинули Львов в 1945 году, потому что альтернатива остаться означала получение советских паспортов. Мы потеряли, собственно говоря, все, потому что мои родители до последней минуты верили, что Львов останется польским. Сейчас же, хотя я и не имею точных доказательств, я уверен, что Сталин взял Львов вместе с Восточной Галицией под советское управление не из любви к украинцам, а только потому, что расширенная таким способом и выдвинутая на запад советская территория становилась хорошим плацдармом для атаки на Западную Европу. Осознание того, что волей одного человека были изгнаны миллионы поляков из так называемых восточных рубежей Речи Посполитой, стало еще одним поводом для нашей грусти. В книге под названием «Высокий Замок», изданной в 1966 году, то есть в ПНР, я описал мое львовское детство и, листая эту книгу сейчас, замечаю, что, к сожалению, уже многое из воспоминаний о прежнем Львове начинает стираться из моей памяти. Издательство «Kluszczyński» недавно издало несколько альбомов, посвященных нашим давним Восточным рубежам, и один из них, названный просто «Львов», помогает мне в написании этих воспоминаний.
После окончания начальной школы имени Жулкевского я был записан в гимназию, которая сначала называлась «Вторая», а ее ученики носили конфедератки с желтым околышем, похожие на жандармские. После второго класса была проведена реформа, так что я оказался в гимназии нового типа, четырехклассной, а потом закончил двухлетний лицей в том же самом здании у львовского городского вала. Таким образом, я двенадцать лет подряд ходил от квартиры родителей на Браеровской через центр города к городскому валу у подножия холма, на которой находился курган Люблинской унии. Думаю, что этот путь, проделанный сотни раз, я смог бы пройти с закрытыми глазами. С Браеровской, через прилегающие улицы Монюшко и Шопена, где разносился приятный запах кофе, идущий с местного цеха по обжарке кофейных зерен, затем через площадь Смолки по Ягеллонской, а после пересечения улицы Легионов с виднеющимся в отдалении нашим городским театром, nota bene[194] значительно большим и красивейшим, чем Театр Словацкого в Кракове, передо мной было два пути: я мог перейти через площадь Святого Духа или вдоль трамвайных путей около так называемого Венского кафе. И оказывался на рынке, с его прекрасной, гордо возвышающейся ратушей. Я проходил мимо каменных львов перед высокой плоской стеной ратуши, а также колодец с Нептуном, и через узкую Русскую улицу, в конце концов, добирался до моей гимназии у городского вала, которая числилась уже под номером 560. Сегодня, рассматривая фотографии современного Львова, не могу скрыть огорчения, когда замечаю признаки постепенного освобождения моего города от всего польского. Поскольку до экзамена на аттестат зрелости, сданного летом 1939 года незадолго до нападения Германии на Польшу, я был мальчиком, а потом подростком – мне еще и 17 не было – то знакомство со Львовом было у меня фрагментарным. Например, в Большом театре мои родители постоянно абонировали ложу в партере, и я, подросши, ходил с ними на спектакли.
Мои самые яркие воспоминания связаны с посещением Рацлавицкой панорамы в ближайшем к улице Браеровской парке Костюшко, который мы называли Иезуитским, там я, когда уже подрос, встречал мою бывшую няньку, продающую из корзинки крендели по 10 грошей. Еще там стоял какой-то человек, он держал в руке большую сырую картофелину, в нее были вставлены заостренными концами палочки с прикрепленными к ним крылышками из бумаги, вращающимися при каждом дуновении ветра. Точность рассказанного выше может показаться сомнительной, но у меня нет ничего кроме памяти, что могло бы свидетельствовать о достоверности моих воспоминаний. Иезуитский парк граничил с улицей Мицкевича, целиком вымощенной деревянной брусчаткой для того, чтобы топот конских копыт не мешал студентам Университета Яна Казимира, находящегося на противоположной стороне улицы. Во времена, каких я не мог помнить, то есть австрийские, там находился Сейм Галиции. В этом здании, уже учебном, был вручен диплом врача моему дяде, которого уже нет в живых, я же – тогда четырехлетний – от волнения описался. Кроме того, помню из польского Львова Стрыйский парк, на карте в альбоме названный парком Килиньского. Этот парк граничил с потрясающей – в наших мальчишечьих глазах – территорией Восточной ярмарки. Посещение этой ярмарки у моих друзей и у меня вызывало сильное чувство значимости Львова в Европе, и даже в мире. Мой отец не был сторонником передвижения на автомобиле, поэтому мы постоянно пользовались одной и той же двуконной пролеткой, которой управлял пан Крамер, учитывая его полноту я называл его Толстяком. Обычно маршрут наших загородных поездок был такой: проехав через город, мы направлялись по улице Стрыйской до самого ее конца, где заканчивалась территория Львова и где взималась плата за въезд в город. Дорогу, тогда песчаную, летом иногда обрызгивали из бочек с нефтью, добываемой в Бориславе. Мы доезжали до сада пана Руцкого, в котором родители играли в карты, я же или пытался поиграть в садовый кегельбан, хоть его шары были для меня тогда слишком большие, или качался на большой качели, напоминающей деревянную гондолу. Могу добавить, хотя это уже несколько иное, что иногда кучер распрягал коня и позволял мне покататься на нем без седла.