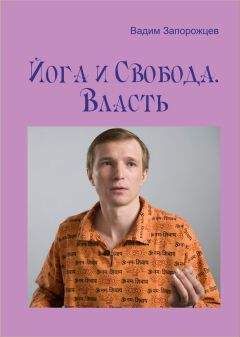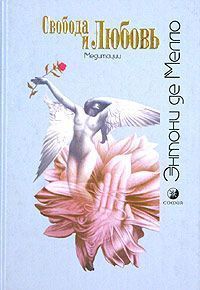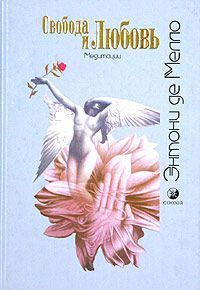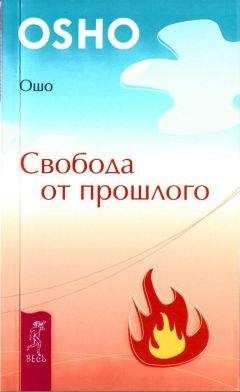Нина Соболева - Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий
1948–1957
Но вернусь к делам житейским, которые требовали тоже немало сил.
Когда дочке исполнился год, а я вся была в заботах о госэкзаменах, вернулись из Бадена родители Геннадия. Мой свекр — подполковник в отставке, человек властолюбивый и деспотичный. Первые три дня шумно праздновал свое возвращение. Обилие гостей, обильная еда и питие, похвальба перед гостями внучкой, невесткой, сыном (которого наедине он всячески третировал).
Но наступили будни, хозяин дома помрачнел, сделал мне выговор за то, что я послала Геннадия за хлебом («не мужское это дело»). А когда за столом я вмешалась в разговор, то пристукнул кулаком по столу: «Бабы должны молчать, когда мужчины разговаривают».
Мачеха Геннадия (бывшая секретарша свекра) потом утешала меня, убеждала, что не надо обращать внимания на грубые слова. Но когда выяснилось, что дважды в день я уезжаю в институт и на это время приходит нянька, терпение моего свекра лопнуло. Он кричал, что женщина должна жить только домом, что ей ни к чему институты, и вообще особа, которая прошла «огонь и медные трубы», не может быть его невесткой. Поэтому он решил, что внучку он вырастит сам, а я могу убираться на все четыре стороны. А вслед за мной пусть убирается и сын, если он не намерен послушаться отца и расторгнуть этот брак. Геннадий заявил, что уйдет вместе со мной.
Снова мачеха уговаривала, что все образуется и дочку нам дед, конечно же, вернет, тем более что через пару недель у него кончается отпуск и он возвращается еще на год в Баден. Но я не хотела оставлять Иринку ни на один день и утром поехала в Военную комендатуру, с тем, чтобы найти управу на распоясавшегося подполковника-отпускника. Мое заявление приняли и для «улаживания конфликта» определили молоденького офицера и двух солдат. Когда я в таком сопровождении вошла в квартиру, то была ужасная сцена. И хмельной свёкор, и его сестра (старая дева, фанатично влюбленная в брата) кричали, что я «уголовница», что я «втерлась в их порядочную семью, а теперь вот еще и оклеветала их, так как никто не думал отнимать ребенка». Под эти крики я быстро одела Иринку, Геннадий собрал кое-что из одежды и мы ушли из этого дома, оказавшись, в полном смысле слова, на улице. Сначала пожили у друзей, потом я была вынуждена просить своих родителей приютить нас. Более полугода жили в одной комнате мама, папа, мы с Геннадием и Иринкой, да еще бабушка, да еще приходила днем нянька. Отец был мрачнее тучи, но молчал. Любовь к забавной, шустрой внучке смягчала атмосферу. В этот период я защищала дипломную работу, сдавала госэкзамены.
Ленинград. С дочкой
Начало работы по профессии омрачалось тем, что невольно еще больше обострилось чувство страха, который всегда висел надо мной и был связан прежде всего с моей биографией. После окончания института при распределении на работу полагалось заполнить огромную анкету, где были десятки вопросов и о себе, и о родственниках. И вот перед графой «Была ли судимость и за что?» — я застывала, как перед неодолимым препятствием: напишешь «была» — не возьмут ни на одну работу, связанную с «идеологическим фронтом» (а моя профессия — будь я педагогом, редактором, критиком — самая «идеологическая»). Напиши я в анкете «не судима» — это может стать основанием для новой судимости, если обман раскроется.
И все же я выбрала второй вариант, солгала, написала «не судима» в надежде, что, сменив фамилию, я «затерялась» и вряд ли так тщательно будут проверять документы в маленьком захолустном г. Галиче Костромской области. Там очень нуждались в молодых специалистах и встретили нас очень хорошо: дали квартиру с мебелью и пианино. Работать мне было интересно, Иринка подрастала среди тишины старинного городка, тянулась не столько к детям, сколько к телятам, козлятам, курам и прочей живности, разгуливающей по улочкам. Пила парное молоко, каталась с горы на санках, играла с выводком котят, которые жили в нашем доме, и стала спокойной полненькой девчушкой, довольной всем и вся. Сидя как-то зимой на подоконнике и глядя на луну, вдруг задумчиво сказала свою первую фразу: «На улице темно, темно… Мороз…». И если бы мы остались жить дальше в этой провинциальной идиллии, то, кто знает, скольких напастей, предстоящих нам впереди, мы бы избежали?.. Но, конечно же, нам не терпелось вернуться в Ленинград, тем более, что уже решился вопрос с жилплощадью (свёкр одумался и «выдал» нам комнату его сестры в огромной коммунальной квартире, забрав Анну к себе). А мне предлагали работу в Ленинградском культпросветучилище. И мы в 50-м году вернулись в Ленинград. И если в Галиче я как-то забыла о своих страхах, то здесь снова навалился на меня кошмар: а вдруг откроется мой обман в анкете!
Это мое состояние отразилось и на нервной системе: я начала часто и беспричинно плакать, боялась толпы, не могла переходить улицу без провожатого. Мучили бессонницы или сны о новом заключении… Пришлось лечиться. Но периоды таких депрессий повторялись еще много лет. Так и жила всегда под гнетом страха. Что же касается быта, жизненных условий, в которых мы оказались после года почти деревенской жизни, то они стали тоже достаточно тяжким грузом. Комната, которую нам «выделил» свёкр, находилась в квартире коридорной системы на 18 семей. Одна кухня, один туалет. В длинных коридорах с цементными полами стирали и развешивали белье, играли дети, сюда забредали собаки и пьянчужки, так как входная дверь не закрывалась. Обувь, пальто, керосинку — всё надо было держать в комнате.
С трудом нашла няньку — малограмотную старуху, которая курила (в наше отсутствие и в комнате), любила болтать со всяким встречным и приглашать гостей. В результате от одного из «гостей» няньки дочка заразилась туберкулезом. Перед этой бедой отодвинулись все другие переживания: обострение отношений с Геннадием, участившиеся выпивки его, мысли о разводе — всё переключилось на болезнь ребенка.
По возвращении в Ленинград Геннадий не захотел продолжать медицинское образование, искал удачу в различных ансамблях, джазах, художественной самодеятельности, но это всегда было очень непрочным заработком. Коллективы эти появлялись и распадались, были периоды, когда за год Геннадий менял около десятка мест работы. Плохо было и то, что работа эта была вечерняя, а днями он зачастую много времени тратил на переговоры с «нужными людьми», на встречи с многочисленными друзьями-«лабухами»[57]. Такая суетливая жизнь воспринималась им как активная деятельность, как стремление найти выход из трудного материального положения, которое теперь обострилось: для дочки требовалось усиленное питание, фрукты, лекарства. Я стала работать в Ленинградском культпросветучилище на полторы ставки, имела нагрузку до 36 часов в неделю (это не считая подготовки в библиотеках), но получался замкнутый круг: все меньше времени я могла уделять дочке, и почти весь день она проводила с нянькой (правда, теперь мы нашли чистоплотную и ласковую пожилую женщину, но и платить ей надо было дороже, чем предыдущей). Лечение дочки шло медленно, пришлось отправить ее в санаторий в г. Пушкин. Ездили туда, возили все, что можно было найти на базарах и в коммерческих магазинах. А когда процесс в легких немного приглушили и Иринка вернулась домой, то появились новые проблемы. Отец Геннадия демобилизовался и, конечно же, обвинил меня в том, что я «довела ребенка до болезни». Он решил вмешаться в воспитание и лечение внучки. Ей уже исполнилось четыре года, и отныне по воскресеньям она с Геннадием с удовольствием ходила к дедушке. Там ее закармливали котлетками, апельсинами, шоколадом, задаривали игрушками. Возвращаясь домой, она отказывалась есть простую и здоровую пищу, не хотела даже в будни снимать подаренное ей бархатное платьице и рассказывала, что на лето дедушка увезет ее в Крым. Я пыталась доказать Геннадию, что эти визиты калечат девочку, но он отмалчивался, тем более что приходил оттуда навеселе и чувствовал себя виноватым. А противоречить в чем-то отцу он не умел. Судя по некоторым высказываниям Иринки, я поняла, что в том доме в присутствии ребенка говорят обо мне, не стесняясь в выражениях.