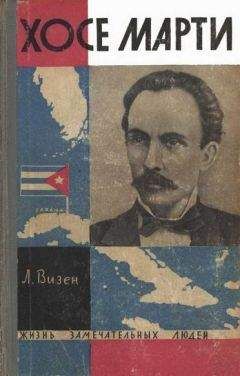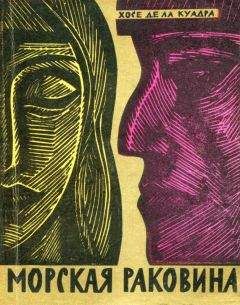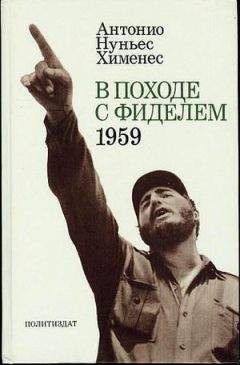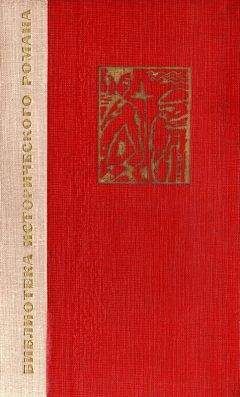Владимир Кораблинов - Жизнь Никитина
Осень 1861 года
Он умирал один, как жил…
Ап. Григорьев.Боже мой, как долго, как утомительно долго тянулось лето!
Оно было похоже на мучительную бессонную ночь, когда Время, не замечаемое в дневном бодрствовании, являет свою грозную, неодолимую бесконечность и предстает столь существенно и почти осязаемо, что чуть ли даже не всплески его могучего течения слышатся несчастному страдальцу.
О, эти непостижимые существа – крохотные минутки! Еще так недавно, каких-нибудь полгода назад, а именно пятнадцатого апреля, они мчались вихрем, как сверкающий рой шаловливых малюток – не то купидонов, не то ангелочков, – мчались, прелестно надувая круглые розовые щечки, мелодично трубя в крошечные витые раковинки… Овеянные дивным ароматом собирающейся к цвету весны, они волшебно превращали в трепещущую музыку все вокруг: скучную Дворянскую улицу, грохот телег, топот солдатского марша, унылый колокольный звон. И так удивительно, на легких крылышках пронеслись, исчезли в наступающих сумерках, оставив в ладони нежный аромат Наташиных духов.
В кромешной тьме октябрьской ночи размеренно постукивал маятник, и каждые тридцать минут невидимая, из невидимого домика выскакивала кукушка, деловито, без страсти, выговаривала суховатое «ку-ку» и снова скрывалась на полчаса в таинственном жилище.
Иван Савич вздохнул и провел по усталому от боли лицу рукой. Ладонь была пропитана запахом йода и скипидарной растирки. Преодолевая мучительную боль, он потянулся, чтобы сесть, опершись спиной на подушки. В таком положении оказалось, что комната не так уж темна: серые проемы трех окошек хоть и скудно, но все же освещали кое-что, – какое-то белое пятно в углу (полотенце?), какой-то смутный очерк неуклюжего предмета на столе (самовар?); какие-то блики играли на тумбочке – склянки с лекарствами.
Но что-то твердое неприятно и больно вдавливалось в самый крестец. «Что бы это такое могло оказаться под подушками?» – озадаченно соображал Иван Савич. Конечно, пустое дело было бы взять, завести за спину руку да и пощупать, но такое движение неминуемо принесет боль… Нет, пусть уж лучше снаружи давит, чем эта проклятая боль внутри!
«Но все-таки что же это такое?»
Еще раз прокуковала кукушка. На дворе глухо прокричал петух, ночь, стало быть, перевалила на вторую половину. Что же под подушками? Наконец вспомнил: евангелие.
И мысли перекинулись на Михаила Федорыча.
Милый друг и непонятный человек!
Иной раз он удивительно чуток, душевен; в суждениях о жизни, о литературе выказывает справедливость и глубину мысли. В эти минуты он действительно – милый друг, или, как шутливо называет его Иван Савич – шер ами. Но проходит день, другой – и перед вами новое и, надо сказать правду, пренеприятное лицо: суховат или не в меру выспрен, какая-то чиновничья чопорность, чиновничьи суждения; от умного, живого человека пахнёт вдруг такой благонадежной великопостной вонью конопляного масла, восковых свечей, полицейского участка! Недаром умнейший и прозорливейший Николай Иваныч называл де-Пуле Янусом двуликим.
Его все лето не было в Воронеже, он |разъезжал по губернии, уйдя с головой в дела статистические и этнографические. Воротясь из поездки, стал навещать Ивана Савича ежедневно, часами просиживая у его постели и почему-то толкуя исключительно почти о предметах религиозных. Иван Савич не был атеистом, он как-то, по-своему, верил, но верование его было никак не церковным, не только не признающим официальное православие, но прямо противящимся ему. Попы, монахи, весь их быт, вся их темная деятельность внушали ему отвращение давно, с семинарской скамьи. Однажды у него вырвались такие стихи:
Поп, обросший бородою,
По дворам с святой водою
Будет в праздники ходить,
До упаду есть и пить,
За холстину с причтом драться
Попадьи – жены бояться,
Рабски кланяться рабам
И потом являться в храм…
Церковность, поповство были ненавистны Ивану Савичу своей тупостью, подлостью, невежеством и лицемерием. А де-Пуле почему-то по приезде из своих губернских вояжей обернул к Никитину именно это свое лицо – ханжеское и церковно-поучительное. Было смешно и неприятно видеть его толкующим вопросы этакого пропахнувшего лампадным маслом православия.
Небрежно, изящным жестом сбивая пушинку со шляпы, поигрывая франтовской тросточкой, Михаил Федорыч затевал скучнейшие рассуждения о какой-нибудь статье из «Епархиальных ведомостей» или о записках келейника свежеиспеченного Тихона Задонского, напечатанных в журнале «Православное обозрение». Затем приносился и самый журнал и вслух прочитывались избранные места из «Записок». Иван Савич, случалось, задремывал во время чтения; тогда де-Пуле уходил на цыпочках, оставив на тумбочке возле дивана журнал.
Так у постели Никитина появились евангелие, творения Иоанна Златоуста, разрозненные нумера «Православного обозрения», какие-то подслеповатые брошюрки о жизни души вне тела, о сладости покаяния и тому подобные. Мишель был неутомим.
– Послушайте, – сказал однажды Иван Савич, – похоже, вы меня усиленно готовите к путешествию ad patres[18], к благостной кончине христианской? Так позвольте вам заметить, что я еще не собираюсь… У меня еще есть надеждишка!
В его голосе слышались усмешка и раздражение.
– Что вы, что вы! – поспешил возразить де-Пуле. – С чего это вам в голову пришло?
– Да как же! Черт знает чем пичкает последнее время: какие-то задонские келейники, сладость покаяния! Расскажите-ка лучше, что в городе делается? Что новый губернатор?
После тишанских беспорядков граф Дмитрий Николаич был отстранен от губернаторства; его место заступил генерал-майор свиты его величества господин Чертков.
Михаил Федорыч на короткое время отвлекся, рассказывал что-то о новых банях и фонарях, о всяких толках и пересудах по поводу затеваемой прокладки железной дороги от Москвы до Воронежа и далее, на Ростов. Иван Савич оживлялся и, забыв про свои железнодорожные огорчения в питерском путешествии, хвалил быстроту передвижения по чугунке, радовался широким, открывающимся Воронежу возможностям.
Но Михаил Федорыч снова незаметно поворачивал разговор на душеспасительные темы, железным дорогам явно предпочитая недавнее открытие мощей святителя Тихона.
Наконец он привел с собой какого-то отца Арсения, ученого иеромонаха, окончившего киевскую академию. Черносмуглый, похожий на цыгана, с вострыми, беспокойно бегающими глазками, он сразу принялся рассказывать о своем путешествии в Задонск, восторгаясь тамошними торжествами и расхваливая праведное житие преподобного Тихона с таким наигранным жаром, словно был барышником, норовящим всучить простодушному покупателю разбитого на все ноги, опоенного мерина.