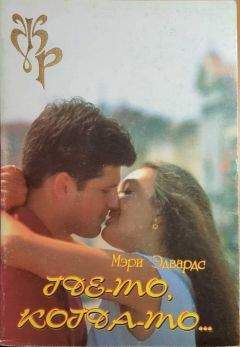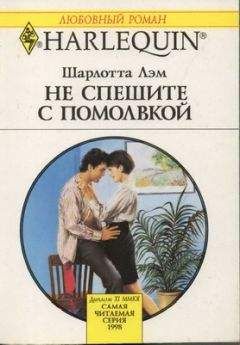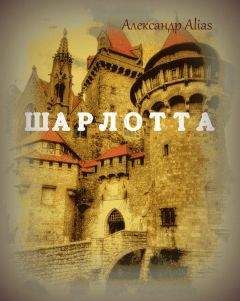Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал
Это был последний в моей жизни разговор с Горощенко.
Мы только и думали о возвращении в Москву. А этот отъезд предполагался не раньше самого конца года. И как на грех в конце года тяжело заболела чем‑то Наташа. Кто- то посоветовал мне пригласить знаменитого в Самарканде профессора Кусаева, директора бруцеллезной клиники. Я пошел к нему, он жил совсем близко от нас, но потребовал, чтобы я достал извозчика. Я с трудом сумел это сделать, и Кусаев приехал. Он быстро определил у Наташи типичный бруцеллез и предложил положить Наташу в его клинику. Это было осуществлено, но работавшие в клинике врачи никак не могли как следует определить этот бруцеллез, пока через две недели не обнаружили, что у Наташи нет никакого бруцеллеза, а есть самый обыкновенный брюшной тиф. И Наташу спешно вернули домой. Но тут получилось, что этим брюшным тифом успели заразиться и я, и Маша. Помог И. М. Лейзеров, у которого были какие‑то знакомства с находившейся в Самарканде Ленинградской Военно — медицинской академией, и нас обоих туда приняли. Ухаживать за больной Наташей взялась, конечно, наша соседка Фрида Константиновна. Самаркандская знаменитость профессор Кусаев оказался бесстыдным шарлатаном.
И у меня, и у Маши тиф был не тяжелым. Маша развлекала соседок по палате тем, что танцевала на своей кровати. А у меня в палате, кроме меня, было два человека: один очень пожилой молчаливый еврей и совсем молодой лейтенант Виктор Непобедимый, очень красивый и очень тяжело больной, что было в резком контрасте с его удивительным сочетанием имени и фамилии. Я пролежал в больнице примерно три недели (точно не помню). Когда моему соседу — лейтенанту стало легче, я стал развлекать его и другого соседа тем, что декламировал известные мне наизусть многочисленные стихотворения Пушкина, Тютчева, Фета, Блока, Пастернака, и они оба очень радовались этому. Когда я наконец собрался возвращаться домой, мой пожилой молчаливый сосед сказал: «Я стал поправляться от ваших стихов!» Я глубоко благодарен доктору Эсфири Яковлевне Бернат, так внимательно и заботливо опекавшей меня и Машу. Много лет спустя я написал ей в Ленинград и получил ответ.
Пока мы все трое хворали, институт уехал в Москву, оставив нас на попечение ленинградцев, так что мы прожили в Самарканде еще несколько месяцев в 1944 году (не могу сообразить, сколько месяцев). Но я стал читать лекции ленинградским студентам, а когда у них состоялась не слишком многолюдная дипломная защита, выступил единственным официальным оппонентом. Меня тронул незнакомый мне старичок — профессор, который спросил, когда окончилась дипломная защита: «Вы разрешите мне посмотреть ваши собственные живописные работы? — меня так поразила ваша точность в разборе тех дипломных работ, о которых вы говорили». Он был очень удивлен, когда я сказал, что я не живописец, а историк искусства. Видимо, он наслушался таких «историков искусства», которых «точность разбора» интересовала очень мало. Не понимаю, почему он не вспомнил Николая Николаевича Пунина, — должно быть, ему не пришлось его слышать, а у него эта «точность» была много лучше моей.
Когда Академия художеств собралась ехать в Москву (пока еще не домой), Наташу и Машу поместили в одном вагоне, а мне предоставили верхнюю полку в другом, в противоположном конце состава. На соседней такой же гюлке лежал Пунин, и всю неделю, что шел поезд, мы могли сколько нам вздумается разговаривать. Я каждый день ходил к Наташе и Маше, а потом возвращался на свою полку. И хотя нельзя сказать, чтобы ехать было удобно — не было ни матрацев, ни подушек, ни одеял, — все же эта неделя была одной из самых насыщенных и увлекательных в моей жизни. Ах, какие это были разговоры! Пунин был подлинным мастером размышлений. Лишь малая их доля была им напечатана в его книгах и статьях. А по отношению ко мне он был бесконечно щедр и расточителен. Мне не удалось записать по памяти хотя бы самое важное — по приезде в Москву на меня сразу навалилась уйма работы: я остался доцентом Московского художественного института, вернулся в свой Музей изобразительных искусств имени Пушкина и стал аспирантом Академии наук во вновь созданном И. Э. Грабарем Институте истории искусств. Но эти беседы с Пуниным стали достойным завершением моей самаркандской эпопеи.
Мне осталось рассказать о четырех очень разных вещах, связанных с Самаркандом, для меня важных и мне дорогих.
Во — первых, однажды я встретил в Старом городе Лазаря Израилевича Ремпеля. Он был в двадцатые годы студентом того же отделения теории и истории искусств, что и я, на курс или два моложе. Я был, конечно, с ним знаком, но никакой близости между нами не было. А эта встреча в Самарканде стала началом все возраставшей и углублявшейся с каждым десятилетием дружбы. В Самарканд Лазарь Ремпель попал не по своей воле. Окончив университет, он занялся архитектурой и в середине тридцатых годов напечатал книгу о современной архитектуре Запада, в которой, в частности, описал и совершенно справедливо расхвалил новый южный район Рима — ЭУР. Эта книга была неосторожным шагом — как он посмел в те времена хвалить что‑то, рожденное «разлагающимся капитализмом»? Один подлец написал донос (Поликарп Лебедев), другой напечатал разносную рецензию. В высших сферах сочли книгу Ремпеля столь крамольной, что его сослали в Среднюю Азию — в Бухару и Самарканд, считавшиеся тогда глухой провинцией (слава Богу, не в лагерь!). В поисках средств к существованию он обратился к фотографии и зарабатывал ею, бродя по колхозам вокруг Бухары и Самарканда. И стал первоклассным фотографом. Но в своих хождениях по стране он продолжал наблюдать и изучать памятники архитектуры времен Тимура и Улугбека. И после войны, перебравшись в Ташкент и решив остаться там навсегда, он выступил с сенсационными открытиями, относящимися к структуре и значению геометрического орнамента, покрывавшего стены средневековых мечетей и мавзолеев. Он стал одним из крупнейших и ведущих ученых — историков искусств в Узбекистане, наряду с Пугаченковой — главным специалистом в своей области, доктором искусствоведения, автором многих книг и статей. Мы стали переписываться, он приезжал в Москву, был не раз у нас на Николиной Горе (и сделал там серию лучших, какие у меня есть, фотографий меня, Маши, обоих мальчиков и трех наших собак). Но после долгой болезни умерла его жена, он остался в Ташкенте один, расхворался и наконец уехал в Москву к дочери. Болезнь сердца не позволила ему прожить спокойно конец жизни. Он был одним из ближайших моих друзей.
Второе, о чем я хотел сказать, это о посещении квартала бухарских евреев в Старом городе. Я знал об их существовании и однажды решил своими глазами убедиться в их необычности. Действительность превзошла мои ожидания. Я нашел этот квартал в самой середине Старого города, пройдя запутанную вязь кривых переулков. Я увидел величественных старцев с длинными седыми бородами в белоснежных одеждах до самой земли и поразительно красивых девушек в светло — синих одеждах, тоже до земли. У меня было чувство, что какая‑то машина времени перенесла меня во времена Авраама и царя Соломона, что это полная жизни Библия, очевидно существующая вечно, невзирая на проходящие тысячелетия. Не знаю, уцелела ли эта живая Библия в годы «развитого социализма», осталась ли до сих пор в своем первозданном виде, но в моей памяти осталась крепко.