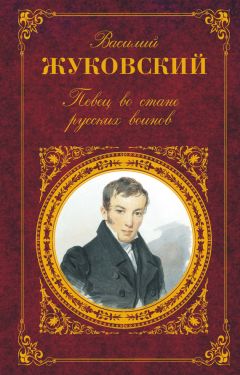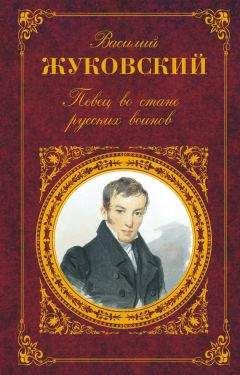Илья Виницкий - Дом толкователя
108
По-видимому, последние слова также отсылают к одному из манифестов государя: «Всемогущий положил предел бедствиям. Прославил любезное нам отечество в роды родов. Воздал нам по сердцу и желаниям» (цит. по: Шильдер: III, 239). Ср. также слова из Манифеста от 1 января 1816 года: «Мы желаем и молим Всевышнего о ниспослании благодати своей, да утвердится Священный союз сей между всеми державами, к общему их благу» (Там же: 360).
109
Ср., например, в книге Голикова (1807), которая была в библиотеке поэта. Жуковский в послании Александру 1814 года использует символику недели Ваий («народы… вайями Твой путь смиренный облекли» [Успенский: 167]).
110
Ср. знаменательные слова императора, обращенные к баронессе Крюденер: «Я покидаю Францию, но до своего отъезда хочу публичным актом воздать Богу Отцу, Сыну и Святому Духу хвалу, которой мы обязаны Ему за оказанное нам покровительство, и призвать народы стать в повиновение Евангелию». Здесь же создание Священного союза названо актом богопочтения (dans cet acte d’adoration) (цит. по: Шильдер: III, 344).
111
Любопытно, что эта лошадь была подарена императору Коленкуром в бытность последнего посланником при русском дворе.
112
Во время военной литургии у эшафота казненного Людовика на Площади Согласия на Пасху 1814 года.
113
Возможно, что в образе поэта-священника отзывается и биографический мотив: придворный поэт Жуковский, живший осенью 1817 — весной 1818 года в келье Чудова монастыря, в шутку именовал себя монахом (князь Вяземский называл его в переписке с Тургеневым «отцом Василием» [ОА: I, 100]).
114
Образ певца, поющего на пиру у всесильного владыки, является традиционным. Немецкий комментатор баллады о графе Габсбурге видит здесь аллюзию на гомеровского Демодока, поющего на пиру у феакийского царя в присутствии Одиссея (Schiller. II, Teil II В, 187). Для Жуковского образ певца ассоциировался прежде всего с легендарным Тиртеем (с которым поэта часто сравнивали современники), бардами северных поэм Оссиана и с древнерусским Бояном. Очевидно, Жуковскому был известен и один из текстов-источников шиллеровского стихотворения — баллада Гете «Der Sänger» (Певец), вольно переведенная (склоненная на русские нравы) в 1814 году литературным соперником Жуковского П. А. Катениным. В версии последнего вдохновенный певец Услад поет песню, которой в восторге внимают бодры юноши, девы красные и сам князь Владимир Красное Солнышко. Особую роль в этой балладе играет мотив княжеского дара, от которого отказывается свободный певец. Как показал Ю. Н. Тынянов, образ певца, отказывающегося от царской награды, является сквозным в поэзии Катенина и наполнен биографическими и политическими аллюзиями (Тынянов: 73 и далее). «Задняя мысль» поэта ощущается уже в этой «Песни» (опубликована в 1815 году). Примечательно, что Шиллер в отличие от Гете, а Жуковский в отличие от Катенина вкладывают слова о свободе искусства от земной власти в уста благочестивого владыки (Пушкин в «Песни о Вещем Олеге» вернется к «версии» Гете — Катенина). Таким образом достигается гармония между властью и искусством, осененная самим Провидением.
115
Показательно, что свое знаменитое послание «Императору Александру» (1814) Жуковский сперва думал начать с картины «Совета Царей» (зд. Венского конгресса) — замысел, не нашедший отражения в тексте стихотворения (см.: Иезуитова: 154), но реализовавшийся, как видим, в балладе «Граф Гапсбургский».
116
Мотив «самоиграющей» лиры, конечно, восходит к поразившему воображение поэта описанию игры Бояна в «Слове о полку Игореве» (см. далее). В более ранней «Песне Барда» (1806) говорилось: «Певец ударил по струнам — // Одушевленны забряцали».
117
Характерно, что Жуковский переводит эту ключевую строфу в иной, нежели у Шиллера, эмоциональный регистр: здесь восемь восклицательных знаков, а в оригинале нет ни одного.
118
Ср., например: (ИРП: 253–254).
119
Слово «пылает», отсутствующее у Шиллера, Чешихин назвал удивительно метким: темное чувство светлеет, дойдя до сознания; это чувство «органически-тепло» (Чешихин: 58). Сравните родственный образ из завещания Лопухина, имевшего значительное влияние на Жуковского в середине 1810-х годов: «[Д]рузья мои! из глубины пылающих любовию сердец ваших пожелайте только, чтоб <…> пил я неисчерпаемую чашу блаженства в той непостижимой стране, где цветет вечный сад радости» (Лопухин: 210–211).
120
Как замечает Зорин, «слиться в этом „братском хоре“ должны голоса всех народов мира» (Зорин: 325).
121
Думается, нет необходимости специально останавливаться на том, какую роль играл в поэзии Жуковского второй половины 1810-х годов (и далее, вплоть до последних стихотворений поэта) образ небесной завесы, «сторожем» которой является истинный певец. Заметим только, что лирика Жуковского 1816–1818 годов насквозь пронизана мотивом зрелища (видения) небесного царства: «Вадим», «Орлеанская дева», «На кончину Ея Величества королевы Виртембергской» и другие. Кажется, никогда еще Жуковский не был (и не будет!) так дерзок в приподымании «завесы».
122
«Alexander, speaking in the name of Christ, drew his moral authority from above and detached himself from the forces of popular nationalism awakened during the war» (Wortman: 230).
123
Ср. возможный намек на шествие на осляти в балладе Жуковского: священник-поэт оказывается выше светской власти, отдающей ему почести.
124
Напомним, что «Пролог» «драматической поэмы» «Орлеанская дева» (из Шиллера) впервые был опубликован в шестой книжке «Для немногих», получившей цензурное разрешение в тот же день (3 июня 1818 года), что и пятая книжка, включавшая послание великой княгине и балладу об императоре Рудольфе. Попутно заметим, что мотив священного союза поэта и властелина, восходящий в истории русской поэзии к двум шиллеровским произведениям в переводе Жуковского, впоследствии нашел «формульное» выражение в известном монологе Самозванца из пушкинского «Бориса Годунова».