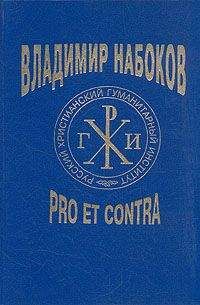Томас Урбан - Набоков в Берлине
В своем дневнике Владимир Набоков делает запись по поводу этой трагедии, изменившей всю его жизнь:
«Это ночное путешествие помнится мне как нечто происходившее вне жизни и нечто мучительно медленное, как те математические головоломки, что мучают нас в полусне температурного бреда. Я смотрел на огни, проплывавшие мимо, на белеющие полосы освещенной мостовой, на спиральное отражение в зеркально-черном асфальте, и мне казалось, что я каким-то роковым образом отрезан от всего этого — что уличные огни и черные тени прохожих — это лишь случайные видения, а единственным отчетливым, и веским, и единственно реальным на целом свете было горе, облепившее меня, душившее меня, сжимавшее мне сердце. „Отца нет на свете“. Эти четыре слова грохотали в моем мозгу, и я пытался представить себе его лицо, его движения. Вчерашний вечер был такой счастливый, такой нежный. Он смеялся, он стал бороться со мной, когда я хотел показать ему боксерский захват… Наконец мы приехали. Вход в филармонию… Мы идем по длинному коридору. Через открытую боковую дверь я увидел зал, где в одно из мгновений прошлого случилось это. Некоторые стулья там были сдвинуты, другие валялись на полу… Наконец мы вошли в какой-то холл; люди толпились вокруг; зеленые мундиры полицейских. „Я хочу видеть его“, — монотонно повторяла мать. Из одной двери вышел чернобородый человек с перевязанной рукой и пробормотал, как-то растерянно улыбаясь: „Видите ли, я… я тоже ранен“. Я попросил стул, усадил мать. Люди растерянно толпились вокруг. Я понял, что полиция не пустит нас в ту комнату, где лежит тело… И вдруг мать, сидевшая на стуле посреди этого вестибюля, заполненного незнакомыми, растерянными людьми, начала громко рыдать, издавая какие-то неестественные стоны. Я прильнул к ней, прижался щекой к ее трепещущему, пылающему виску и прошептал ей только одно слово. Тогда она начала читать „Отче наш…“, и когда она закончила, то словно окаменела. Я понял, что нам незачем больше оставаться в этой безумной комнате»[47].
Когда Владимир Набоков сообщил дома своим сестрам о покушении, одна из них стала рассказывать о том, как она непосредственно перед отъездом отца в филармонию пришивала пуговицу на костюме: «Напрасная трата времени. Пришивать пуговицу на такой короткий срок»[48].
Двумя днями позже состоялась панихида по его отцу в церкви русского посольства на Унтерден Линден, где во время отпевания по русскому обычаю был установлен на помосте открытый гроб с покойным. В. Д. Набоков всегда сохранял дистанцию по отношению к православной церкви, и его дети тоже были воспитаны в том же духе. Владимир Набоков изгнал с этого дня слово «бог» из своих стихов. Через два дня, 1 апреля 1922 года, после отпевания убиенный был похоронен на маленьком русском православном кладбище в Берлине-Тегеле при большом стечении обитателей эмигрантской колонии — пришло несколько тысяч человек.
Павел Милюков к этому моменту уже уехал в Париж по совету берлинских кадетов из окружения Гессена, а также немецкой полиции, которая опасалась нового покушения. Но до этого Милюков написал некролог, который на немецком языке был напечатай большинством немецких газет:
«Из ложно понятого русского патриотизма убийцы сгубили русского патриота, всю свою жизнь отдавшего служению родине и имевшего перед ней незабываемые заслуги. […]
На мое объяснение, почему России больше не нужна монархия, они ответили выстрелами в безоружных»[49].
УбийцыОба стрелявших были опознаны как бывшие царские офицеры Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий. Для немецких властей они не были незнакомцами. Оба они принадлежали к правоэкстремистской организации монархистов и поддерживали контакты с тогда еще не игравшими серьезной роли национал-социалистами. Они сочиняли националистические памфлеты и руководили группой, подражавшей антисемитским «черным сотням» царских времен. Их террористические акты были направлены против чуждых им эмигрантских кругов, против евреев и масонов, которые, по их мнению, хотели совратить, коррумпировать и уничтожить русский народ. Оба покушавшихся видели в Павле Милюкове, цели своего покушения, главного виновника свержения царской власти.
За содеянное убийство оба участника преступления были приговорены к длительному тюремному заключению: Шабельский-Борк к двенадцати, а Таборицкий к четырнадцати годам. Документы судебного процесса уцелели во время Второй мировой войны, они находятся сегодня в Тайном государственном архиве в Берлине и хранятся под регистрационным номером 14953. Однако Шабельскому-Борку недолго пришлось отбывать наказание. Уже в марте 1927 года, т. е. всего через пять лет он был помилован прусским министром юстиции. За него перед немецкими властями хлопотал какой-то священник русской эмигрантской церкви, с которым он был в дальнем родстве[50]. Время освобождения Таборицкого установить не удалось, но точно установлено, что в начале тридцатых годов он тоже был на свободе.
Убийцы В. Д. Набокова возвысились в нацистские времена до руководства эмигрантской организацией, которая находилась под контролем гестапо. Нацистские власти были настолько довольны работой Таборицкого, что они дали ему немецкое гражданство[51]. Следы его, однако, потерялись во время Второй мировой войны. Шабельский-Борк пережил войну и смог, как и многие нацистские главари, после капитуляции переправиться в Южную Америку. Там он написал пышущую ненавистью книгу о либералах, евреях и масонах, которые выдали Россию большевикам, и оправдывал в ней совершенное им убийство отца Набокова. Шабельский-Борк умер в 1950 году в Бразилии[52].
В год смерти отца Владимир Набоков завершил свое обучение в Англии и переселился в Берлин к своей матери и сестрам. В конце 1922 года в возрасте двадцати трех лет он вошел в дом по улице Зексишештрассе.
Глава III
БЕРЛИН 1922–1937 годов
Берлин не был для Владимира Набокова незнакомой почвой. Здесь ему и его брату Сергею в 1910 году во время трехмесячного пребывания правил зубы поселившийся в Германии американский врач. Любимым местом тогда десятилетнего Сергея был Паноптикум с его кабинетом восковых фигур в Кайзеровской галерее на Унтер ден Линден, в то время как старшего брата тянуло в магазин Груберта на Фридрихштрассе, в котором продавались бабочки. Многие полуденные часы они проводили вместе на площадке для катания на роликовых коньках на Курфюрстендамм. В Берлине двадцатых годов Набоков пытался однако не только отыскать следы своего детства. Хотя его все больше притягивала сфера искусства, он вынужден был тратить много сил на то, чтобы уберечь свою мать и младших сестер с братом от угрозы бедности, нависшей над ними после смерти отца. Борьба за выживание определяла повседневную жизнь в Берлине и после переселения его семьи в Прагу, и после женитьбы на Вере Слоним. В тридцатые годы вдобавок к этому его угнетало нарастание национализма, от которого ему в конце концов пришлось бежать вместе с женой и родившимся в Берлине сыном Дмитрием.