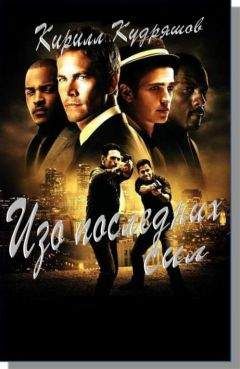Татьяна Андреева - Прощай ХХ век (Память сердца)
Мне всегда было немного совестно оттого, что даже сейчас, в 2009 году, я все так же, как в детстве, люблю сказки. Однако недавно мне на глаза попалась старая книжка немецкого сказочника девятнадцатого века Вильгельма Гауфа, много раз читанная мною в детстве. И там, в конце сказки «Карлик Нос», я обнаружила замечательные мысли, которые не могу не повторить здесь в свою защиту и в защиту всех любителей сказок.
В. Гауф считал, что «великое очарование сказки кроется в стремлении каждого человека вознестись над повседневностью и вольно витать в горних сферах». Здесь же он, задолго до современных ученых-лингвистов, высказался в пользу того, что чтение — это сотворчество! Читая, человек творит вместе с писателем. Эта мысль невероятно важна, особенно сегодня, когда дети перестали читать книги. Они, практически, перестали заниматься творчеством. Родители, которые не приучают детей к чтению, обрекают их на скучную жизнь неодаренных людей, ведущую к существованию на духовно низком уровне. На уровне, где нет любви и уважения даже к себе самому, где процветает, по выражению Максима Горького, психология раба, «идеализированного лакейства».
А какие чудесные советы дает В. Гауф своим читателям! Он призывает, читая сказки, переживать то необычное и своеобразное, что заключается во вмешательстве чудесного и волшебного в обыденную жизнь человека. В обычных рассказах он просит нас видеть «то искусство, с каким переданы речь и поступки каждого, сообразно его характеру». «Всегда поступайте так», говорил он, «и наслаждение для вас возрастет, когда вы научитесь размышлять над тем, что услышали» — или прочитали, добавлю я. Поразительно, что эти мысли принадлежат человеку, который прожил на свете всего двадцать пять лет, с 1802 по 1827 год! Все свои произведения, а он написал около десяти книг, В. Гауф написал менее чем за три года!
Кроме сказок, моими настольными книгами того времени были: синий трехтомник А. С. Пушкина, страшные и сказочные повести Н. В. Гоголя, «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьева, «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, романы Фенимора Купера об индейцах и Майн Рида об отношениях белых и темнокожих американцев и тому подобное. Я читала и перечитывала любимые книги. Мой кумир Ходжа Насреддин был весел и мудр, он побеждал зло и помогал добрым и бедным людям. Веселый притворщик Швейк с наслаждением ел кнедлики с капустой и боролся за мир в Европе, саботируя службу в армии. В восемнадцать лет мне удалось побывать на родине Швейка, зайти в его любимый трактир в Праге и попробовать эти самые кнедлики, которые оказались обычными вареными кусочками крутого теста. Но как вкусно описывал их голодный Швейк, всегда готовый поесть! Как удивительно перекинулся во времени мостик между книжным Швейком, через мою переписку в шестидесятых годах со словацкой девочкой Милой, в Прагу семидесятых. Я не открою ничего нового, сказав, что в жизни все оставляет свой след. Не только дела наши, не только сказанное, но и когда-то прочитанное печатное слово, имеют последствия, которые могут выразиться во встрече с тем, или теми, о ком читал и думал. Мне не довелось побывать на родине Ходжи Насреддина, зато в начале девяностых я повстречала целую группу узбеков на отдыхе в Болгарии, которые отнеслись ко мне как-то особенно душевно и научили меня делать узбекский плов. Гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Вий» пережиты и прожиты мною, как что-то особенно близкое, через маму, наполовину украинку, через многие летние поездки на Азовское море, где были такие же, как у Гоголя теплые и звездные ночи, полные аромата полыни и цветущей мальвы. Только побывав на Украине можно по настоящему почувствовать нежную поэзию этих произведений и безграничную любовь автора к своей Родине. А. С. Пушкин начался для меня с «Песен западных славян», таких притягательно страшных, поэтичных и близких по духу к гоголевским фантастическим произведениям. Потом были «Повести Белкина», а уже за ними я вошла в мир «Евгения Онегина» и лирических стихотворений. Позже А. С. Пушкин стал одним из двух главных моих писателей, второй среди них — Л. Н. Толстой. Самой важной моей детской книгой были «Легенды и мифы древней Греции». (С современной Грецией мне довелось познакомиться во время круиза в восьмидесятых годах!) Древнегреческие герои сходили ко мне с любимых страниц живые и в то же время сказочные, объединяющие небо и землю, несущие идею целостности и единства человеческого мира и мира божественного. Своим существованием они стирали грань между небесами и землей. Да и сами их боги жили совсем близко, на земном Олимпе. Неотразимость подвига, преодоления, казалось бы, непреодолимых препятствий, некая драматическая театральность происходящего в этих легендах и мифах имели для меня особую притягательность, сохраняя ощущение одномерности, плоскости удаленных во времени событий, как на древнегреческих амфорах, где люди изображены как бы в профиль, но этот профиль вмещает все черты лица и детали фигур. Театральная условность происходящего создает ощущение одновременной близости и удаленности того, о чем мы читаем. Как будто кусок пространства опустился к нам во времени и висит, отделяясь невидимой завесой. Кажется — протяни руку и коснешься шлема Афины Паллады, или золотого руна, свисающего со священного дерева. Но нет! Одно прикосновение и, сделав виток, картинка исчезает в небытие.
Глава 2
Море. Вологда. Поиски гармонии
Не знаю, что я люблю больше, лес или море. Есть в море и в лесу что-то для меня первозданное и материнское, я соединяюсь с водой и деревьями на клеточном уровне и ощущаю соприкосновение с ними как блаженство.
Мы едем к морю всей семьей, на поезде. Нас ждет первая в жизни встреча с Азовским морем, оно небольшое и мелкое, всегда теплое и считается «детским», туда везут детей из Харькова, Киева и других украинских городов, и, конечно, с севера. Родители везут нас всех троих — меня, Сашу и Лену. Лене еще только два года от роду. Родители выбрали на берегу Азовского моря маленький городок — Геническ, расположенный в самом начале Арабатской стрелы, песчаной косы, отделяющей море от Сиваша, соленого болота, называемого местными жителями Гнилым морем. Мы добираемся до Геническа почти двое суток, через Москву. В Москве останавливаемся у маминой тети, Маруси. Собственно Марусь было две — старшая и младшая (мамина двоюродная сестра). Старшая Маруся — сухонькая, маленькая женщина с неизменной папиросой «Беломорканал» в углу рта, по привычке оставшейся со времен Великой отечественной войны 1941–1945 годов. Она хранила в своем хрупком теле такую сердечность, такую доброту, которые не умещались дома, и старшая Маруся постоянно ездила по Москве ко всем родственникам, ближним и дальним, нуждавшимся в помощи и уходе. Если бы не она, я никогда не узнала бы маминой родословной, не встретилась бы с ее дядей-пианистом, которого звали Дормидонт, не увидела бы картин другого ее дяди-художника. Даже парадный портрет маминой бабушки по отцовской линии, Христины, висел почему-то в комнате тети Маруси. Как-то получилось, что мы тоже стали называть старшую Марусю тетей, и она не возражала. Младшая Маруся была моложе моей мамы лет на семь и отличалась удивительной малоросской красотой, воспринятой через мать от своих казачьих предков с Кубани. Когда младшая Маруся шла по улице, все мужчины оборачивались ей вслед. Статная фигура, красивые ноги и руки, лучистые карие глаза и рисованный яркий рот, черные кудри по плечам, притягивали взоры. Кроме того, она отличалась умом и редкой начитанностью. В то время она училась в МАИ, московском авиационном институте, одном из самых престижных институтов страны, и уже была замужем за Станиславом, студентом из ее группы. Жили Маруси в старом кирпичном особняке с толстыми стенами в центре Москвы, недалеко от старого Арбата, в Левшинском переулке. В доме сохранился прекрасный лифт с чугунными решетками, мраморная лестница, широкий гулкий коридор, ведущий от парадной двери к лифту. Там я впервые увидела, что представляет собой коммунальная квартира — один длинный коридор и ведущие из него двери в отдельные комнаты разной величины. В конце коридора — одна на всех ванная комната, сохранившая первозданный вид: большую фаянсовую, белую ванну на львиных ногах, старинный щербатый кафель в черно-белую «шашечку» и бронзовый кран. Современной была только газовая колонка, воспринятая мной, как чудо техники. Единственный туалет вносил в жизнь квартиры сумятицу по утрам, а кухня, тоже в единственном экземпляре, с ее многочисленными столиками, покрытыми клеенкой, примусами и керогазами, служила трибуной для выяснения отношений и нередких битв за столь дефицитное жизненное пространство. Публика вокруг жила разнообразная и не слишком дружелюбная. Сейчас трудно представить, но семья из трех человек, двух Марусь и Станислава, помещалась в комнате величиной, не превышавшей шесть квадратных метров. Наверное, до революции это был чулан, длинный и узкий с одним, выходящим во двор окном, до которого мне невозможно было дотянуться, а тем более выглянуть из него. Благодаря тому, что под потолком была большая ниша, родственникам удалось сделать в этом закутке спальню для молодых, и еще хранить там большую библиотеку — предмет моего восхищения и зависти. Мы с Сашей тут же обследовали это необычное жилище, взобравшись наверх по приставной лестнице. Вся квартира целиком казалась мне огромной и загадочной, как лабиринт, живущий своей тайной, отдельной от жильцов жизнью. Здесь хранился запах старого дома, городской запах натертого воском паркета, вековой пыли на недосягаемых, украшенных лепниной потолках и старых вещей, хранившихся в шкафах и сундуках длинного коридора. Мы останавливались в Москве обычно дня на два, на три — наш отец нежно любил цирк. Мне походы в цирк большой радости не доставляли, было жалко несчастных цирковых животных, вечно грязных и униженных. Хотя до сих пор вспоминаю дуэт Никулина-Шуйдина и замечательное зрелище — «Водяную феерию» в начале семидесятых годов — первое настоящее цирковое шоу в Советском Союзе. Та первая встреча с Москвой ограничилась для меня Марусями, их книгами и домом в Левшинском переулке, самого города я не увидела и не почувствовала.