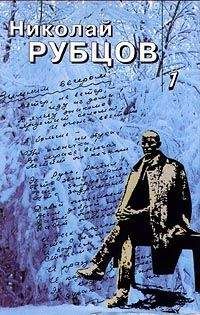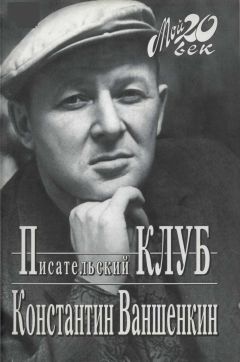Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
Где‑то были музыка и свет,
Где‑то были книги и цветы.
Мертвый отблеск вспыхнувших ракет Крыши вырывал из темноты.
Они двое, столь далекие друг от друга в искусстве, больше, чем кто бы то ни было, не жалея сил и времени, занимались молодыми. Только Исаковский, как правило, совсем начинающими, а Антокольский — и уже признанными.
В том моем стихотворении о крышах была строчка: «В старом здании на Моховой».
— Университет? — спросил Павел Григорьевич.
— Нет. Геологоразведочный, он там же, рядом.
Антокольский стал меня расспрашивать и, как буквально все, посоветовал попробовать совместить геологию с поэзией (к сожалению или не к сожалению, но это у меня не получалось).
— А Литературный что же… Конечно, среда. Ну, прочтете дополнительно сотню книг…
Тогда меня удивило, что он знает, сколько я должен прочитать. В дальнейшем я понял, что он имел в виду книги, которые человек должен прочесть обязательно.
В следующий раз я увидел его уже в Литературном институте. Он меня тут же узнал, назвал по имени, но еще на «вы», подал руку. Впрочем, довольно скоро он стал звать меня на «ты». Он был на «ты» почти со всеми молодыми, в отличие, скажем, от Твардовского с его некоторой чопорностью.
Антокольский же нескольким своим любимцам даже разрешал называть себя Павликом. Конечно, это шло от игры, от Турандот, от сугубо вахтанговского.
Тогда, в сентябре сорок восьмого, в Литинституте был традиционный вечер встречи и знакомства, стихотворный турнир, который вел Антокольский, потом веселье, танцы, тут же буфет, и вдруг я увидел мэтра, отплясывающего по — пиратски со столовым ножом в зубах, ничуть не заботящегося о профессорской репутации.
Я занимался в другом семинаре, но бывал и у него, — это не возбранялось. Он мог, войдя в аудиторию, громко обратиться к своим питомцам:
— Здорово, урки!
Потом ему этих урок припомнили.
А ведь это всего — навсего реплика Кости — Капитана из «Аристократов» Погодина. Он же был насквозь человеком театра.
Он был шумен, ярок, экспансивен, общителен.
Его отличала поразительная доброжелательность.
…первую задорную строфу матрос в Литинституте на Тверском читает Антокольскому баском, — написали когда‑то в своей коллективной поэме (а может быть, длинном стихотворении) Гудзенко, Луконин и Межиров.
Антокольский потерял на войне единственного сына. Именно этим трагическим обстоятельством склонны некоторые объяснять его тягу к молодежи. Но ведь он всей душой поддерживал и предвоенное поколение — Симонова и Алигер, ведь он перенес свою любовь и на тех, кто пришел вслед за нами, — Евтушенко, Ахмадулину. Военное поколение поэтов было ему особенно мучительно близким. Помочь каждому из нас всем, чем он только мог, стало для него истинной потребностью.
И здесь он тоже перенес множество жестоких ударов. Он пережил своих учеников — Алексея Недогонова, Семена Гудзенко, Веронику Тушнову, Михаила Луконина, Сергея Орлова. Думаю, не будет преувеличением назвать их его любимыми учениками. Как он гордился ими, восхищался!
Павел Антокольский — это явление нашей культуры, человек и художник, связующий времена. Кого он только не знал, с кем не общался!
Помню, мы ехали в Ленинград, в купе были Луконин, Р. Рождественский с Аллой и я, потом из другого вагона пришел Павел Григорьевич, которому было там скучно, и начался обычный в таких случаях длинный, разбросанный разговор, — вернее, беседа. «Стрела» отправляется перед полночью, пока устроишься, освоишься, поговоришь или послушаешь — смотришь, скоро утро.
Антокольский рассказывал, — и мне запомнилось, — как он, выйдя с поэтического вечера, пошел один и вдруг увидел, что впереди него идет только что выступавший Александр Блок, тоже в одиночестве. На нем было пальто с поднятым воротником, в руке горящая папироса. И тут он бросил эту папиросу, и она, светясь, пролетела по дуге и упала в черную петроградскую воду. И все! Но Антокольскому (и мне тоже!) это врезалось в сознание.
Бесчисленно общался я с ним — на Бюро секции поэзии, на заседаниях редколлегий «Дня поэзии», просто в жизни.
Он много переводил — лучших поэтов Грузии, Азербайджана, Франции. Или вот держу в руках когда‑то подаренную мне прозаическую — со стихотворными вкраплениями — книжку «Сила Вьетнама». Путевой журнал. И сейчас, через много лет после выхода, это увлекательное чтение. Может быть, в большей степени, чем прежде.
Мы привыкли, что есть Антокольский — с его прихрамывающей походкой, с его палкой, с его голой головой и хриплым голосом. С его добротой и неостывающей заинтересованностью поэзией, театром, всеми, с кем он общался, всем, что он читал.
Еще при его жизни я начал стихи — не то чтобы о нем, но как бы с него. Но не успел тогда закончить.
Не горец, не из сакли,
Где облако в дверях.
Но годы не иссякли И кое — чем дарят.
То годы так гудели,
Что звон в крови возник.
И как он, в самом деле,
Протиснулся сквозь них?
Сквозь горе и отраду.
Да так вот — не робей!
Он скачет по Арбату,
Московский воробей.
Московский долгожитель —
Сквозь дождь и снежный дым.
А вы им дорожите ль?
Так дорожите им.
Он был Антокольским до конца — живым, добрым, энергично общительным.
Вдруг он слег и стал угасать. И здесь он тоже был стремителен. Он позвонил одному другу и сказал:
— Если хочешь попрощаться, приезжай немедленно, а то опоздаешь. Я ухожу…
Тот еле успел.
Его хоронили в хмурый октябрьский день. Сеялся дождик. Я был нездоров, но, разумеется, поехал. Приехал в ЦДЛ заранее. Гроб только что выставили в Малом зале. Народ почти еще не собрался. Я подошел, постоял и, поднявшись наверх, в комнату объединения поэтов, стал смотреть в окно на мокрые крыши.
Вошел Симонов, поздоровался и сказал, что гражданскую панихиду здесь будет вести он, а меня просит провести траурный митинг на кладбище. Я объяснил, что нездоров и на кладбище, наверное, не поеду. И как бы в подтверждение своих слов невольно вынул из кармана начатую упаковку этазола. Симонов усмехнулся, кивнул и сказал грустно, что он понимает, потому что сам болен, и попросил меня выступить в таком случае здесь, от Московской писательской организации.
Ни я, ни, вероятно, он не знали, что ему остается жить менее года.
Мы спустились вниз. Зал уже был полон, люди теснились в дверях. Люди, пришедшие проститься с удивительным человеком, поэтом, художником, учителем — Павлом Григорьевичем Антокольским.
Это было очень трогательное, искреннее прощание. Чем больше проходит времени, тем более нежно, благодарно и восхищенно я к нему отношусь. Такая личность даже в нашей щедрой литературе — большая редкость