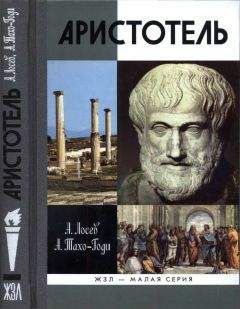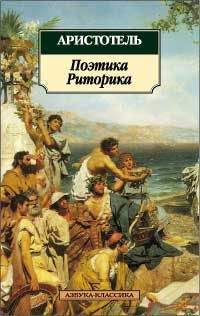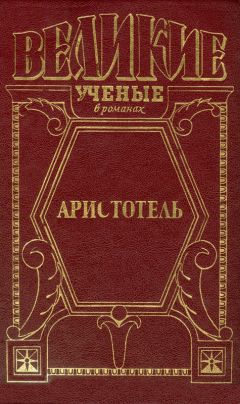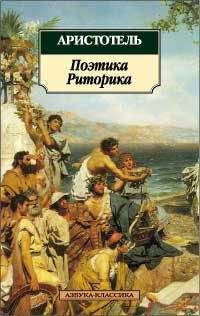Пётр Якир - Детство в тюрьме
К вечеру мы уже пришли в себя, а через день нам приказали всем собираться с вещами и перевезли в главную тюрьму, определив всех в камеру № 30 на втором этаже, такой же «сундук», как карцер, в котором я сидел. Толщина стены в проеме окна была 2 метра 20 сантиметров. На подоконнике могли улечься три человека; мы его называли «раем». Вместе составленные койки считались «землей», а место под койками — «адом». В «аду» большую часть времени проводил мой братец, добровольно туда залезавший и занимавшийся самоистязанием. Он кусочком стекла, например, ковырял себе руку или вырезал на груди крест и т. п.
В тот же день нас вызвали к следователям, и мы подписали окончание следствия. В делах, кроме единственного допроса каждого из нас, ничего не было. На мой вопрос: «Где же следователь Московкин?» — новый следователь ответил: «Это не мое дело».
Позднее мне стало известно, что Московкин и Лехем были арестованы; первый попал на этап вместе с двумя своими подследственными, военными летчиками, и они его убили в Сызранской пересылке, дважды посадив на кол.
Время шло. Раз в неделю нас выгоняли ночью в коридор и производили тщательный шмон (личный и в камере). Отбиралось все, вплоть до носков и трикотажных изделий, которые можно было распустить на нитки.
Кормили в этот период очень плохо: давали щи из гнилой капусты с червяками и тук.
Перед нами в таком же «сундуке» сидел эсер из Средней Азии по фамилии Альберт. Он сидел с 1922 года, только изредка выходя на ссылку. К этому времени у него было 10 лет тюремного заключения.
Большинство камер, находящихся на 3-м этаже, было занято тюрзаками[14]. Альберт спускал нам на бечевочке книги, присылал свои записи по истории нашего государства, описания некоторых эпизодов своей жизни, комментировал происходящие события. От него мы узнали о том, что осенью 1937 года прошел еще один процесс, где были осуждены Рудзутак, Карахан, Кабаков и др. А сейчас он держал нас в курсе происходившего тогда бухаринского процесса. Он ни на минуту не сомневался, что все признания подсудимых — сплошная выдумка. Мы все верили ему, кроме моего брата Юрия. Обычно после переписки с Альбертом у нас разгорались жаркие споры. Не все ребята еще осознавали, что происходит у нас в стране, но я и многие мои сокамерники уже хорошо понимали всю ложь и вероломство, сопровождавшие массовые аресты. Альберт сообщал нам, кто сидит в камерах, соседних с его. Это были эсеры, меньшевики, анархисты и другие. Им в камеры давали газеты, у них проводились диспуты, жили они тоже своеобразной интерпартийной коммуной. Альберт был переведен в одиночную камеру потому, что возглавил борьбу против тюремного произвола (был кем-то вроде старосты по прежним временам). Он был первым человеком в тюрьме, который вдохнул в меня веру в будущее.
В конце марта, ночью, мы услышали шум на 3-м этаже, свет вдруг стал совсем бледным. В этот момент к нам спустился «парашют» с запиской. Там было написано: «Кажется, нам конец. Прощайте, дети мои. 45-ая камера забаррикадировалась и защищается. По-моему, нас увозят на уничтожение». Мы написали ответ, хотели привязать к веревке, но в это время в его камере раздался крик:
«Что вы делаете?!»
И все стихло, но из других камер на третьем этаже продолжали раздаваться крики и шум. Мы бросились к двери и к окну и начали стучать в зонт (щит, заслоняющий окно, называющийся еще «намордник» или «козырек») и в дверь. Шум и стук раздавались и из других камер. Через некоторое время вся тюрьма гудела страшным ревом негодования. Изредка раздавались крики уже во дворе. Был слышен рев моторов машин.
Часа через три все стихло. За все это время к нашей камере, несмотря на нарушение нами тишины, никто не подходил.
На следующий день от баландера[15], заключенного-бытовика, мы узнали, что все тюрзаки — 96 человек — по распоряжению из Москвы были вывезены и расстреляны. По преданию, в Астрахани расстреливали на Парбучьем бугре, на окраине города.
В один из дней, когда совершал обход начальник тюрьмы, ему не понравился какой-то мой грубый ответ, и он приказал водворить меня в карцер на 5 суток. В карцере сидело несколько человек взрослых по 58-ой ст. Среди них был заместитель директора треста «Каспийрыба». Он лежал на полу, брюки на ногах у него были распороты, ноги перевязаны. Он пробыл четверо с половиной суток на «стойке». «Стойка» — это более тяжелый вариант «конвейера». «Конвейер» — непрерывный допрос в течение нескольких суток со сменой следователей. При «стойке» же человека заставляют находиться все время в стоячем положении, а когда он сам не может держаться на ногах, его под мышки поддерживают два охранника. Эти меры систематически применялись в тот период на следствии. Еще не потеряв сознания, он почувствовал, что у него на ноге что-то лопнуло — это лопнула вена. Ноги были опухшие как колоды, для перевязки пришлось разрезать брюки. Он был в полуневменяемом состоянии и все время бредил: «Не виноват, не виноват, гражданин следователь».
Через пару дней, придя немного в себя, он рассказал, что по их делу проходит около 80 человек, все руководство треста, и обвиняют их во вредительстве. Большинство под пытками уже призналось в ложных обвинениях. Несколько человек, в том числе и он, держались. Вернее, уже не держались, а умирали от пыток. Он рассказал о том, что из соседнего следственного кабинета выпрыгнул в окно и разбился секретарь Астраханского горкома комсомола Носалевский.
Другой сокарцерник был инженером крупной строительной организации, проектировавшей строительство рейда на Каспии. У них тоже арестовали почти всех, а инженера пытали, прижигая спичками уши и ломая пальцы. Он уже признал, что, якобы, занимался вредительством по поручению неведомого ему агента японской разведки. После того, как он дал показания на себя и на многих своих подельников[16], а также на людей, которые еще находились на воле, он решил взять назад свои показания и просил вызвать следователя. Следователь не приходил. Он стучал в дверь камеры, за что был посажен в карцер. Вид у него был растерянный, он говорил со всеми таким тоном, как будто просил прощения.
Рассказ «Открылся»— Откройся! Вынь камень из-за пазухи!
— Я ничего не знаю, я честный коммунист.
— Откройся, Носалевский, все равно бесполезно запираться.
— Гражданин Московкин, я же говорил, что чист, как новорожденный.
— Откройся, а то худее будет. Ты вот девятые сутки не спишь, и нас четверых измотал, и сам себя мучаешь. А зря.
— Мне не в чем открываться. Последние три года я работал первым секретарем Астраханского горкома комсомола. Спросите у людей.