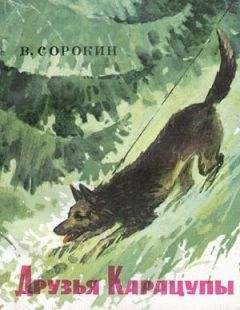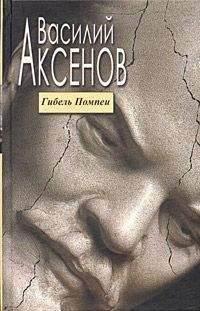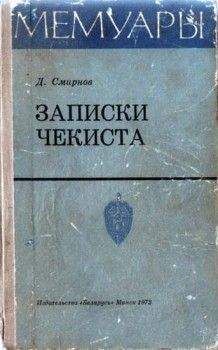Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий
Вторая книга воспоминаний Белого вышла в свет только благодаря тому, что издательское предисловие к ней написал Л. Каменев (тогда еще не преданный анафеме). В этом предисловии без обиняков утверждалось, что весь период времени, описываемый в «Начале века», Белый проблуждал «на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы», что «литературно-художественная группа, описываемая Белым (…), есть продукт загнивания русской буржуазной культуры», что автор воспоминаний ничего существенного не видел, не слышал и не понимал в воссоздаваемой им эпохе[54].
В третьем томе, «Между двух революций», Белый остался верен своему, якобы спасительному, методу густого и тенденциозного ретуширования лиц и пережитого, доведения шаржа до карикатуры, которому он отдал столь щедрую дань в ходе создания и переработки новой версии «Начала века». В этом отношении мемуарные книги Белого, по тематике повернутые в прошлое, являются неотторжимыми памятниками той исторической эпохи, в которую они создавались, освещены отсветами того трагического времени. Иванов-Разумник, близко знавший и очень любивший и ценивший Белого, указывал, однако, на его «человеческие, слишком человеческие слабости», проявившиеся и при работе над воспоминаниями, — «недостаток мужества, приспособляемость»[55]. По мнению В. Ходасевича, третий том мемуаров «очень много дает для понимания самого Белого, еще больше — для понимания беловской психологии в предсмертный период, но по существу содержит неизмеримо больше вымысла, нежели правды»[56]. В этом суждении не учитывается, однако, что тяготение Белого к «вымыслу» в воспоминаниях было обусловлено отнюдь не только оглядкой на антисимволистскую литературную политику и стремлением найти общий язык с новой генерацией, но и отражало сущностные черты художественного метода автора, неизменно преследующего целью жизнетворческое преображение реальности. Характерно, что, идя на допустимые и недопустимые компромиссы, расставляя новые акценты в истории своей жизни, Белый нимало не утрачивает своего художественного мастерства. Даже Г. Адамович, не принимавший в целом мемуарной трилогии, считает нужным подчеркнуть, что Белый «ничуть не ослабел, как художник. Попадаются у него главы поистине ослепительные, полные какой-то дьявольской изобразительной силы и злобы»[57].
В стремлении внешне «революционизировать» символистское движение Белый прибегал в своих мемуарах к толкованиям, которые никого не могли убедить, не замечая, видимо, что в этих же трех книгах ему удалось продемонстрировать подлинно непреходящее значение той литературной школы, к которой он принадлежал. Белый показал, что ему и его ближайшим соратникам, «сочувственникам» и «совопросникам» первым открылось то, что оставалось еще за семью печатями для их сверстников, прилежно осваивавших культуру «отцов» и довольствовавшихся выученными мировоззрительными и эстетическими уроками; открылись — в мистифицированном, символико-метафизическом обличье — исчерпанность прежних убеждений и верований и катастрофизм надвигающейся эпохи. Белый остро ощущал время, чутко воспринимал симптомы будущего и во многом опередил его: подлинную реальность «не календарного, настоящего Двадцатого Века», наступившего позже, он внутренне готов был встретить по незапаздывающему календарю. Кризисная, переломная эпоха воссоздается в мемуарах Белого глазами одного из ее наиболее чутких, ярких и талантливых представителей. Писать историю русского символизма, строго следуя канве воспоминаний Андрея Белого, конечно, нельзя: ни позднейшая, ни более ранняя версия не окажутся для этого достаточно полным и надежным источником, хотя и обогатят эту историю многими немаловажными подробностями и неповторимыми деталями. Но мемуарные книги Белого содержат главное, без чего к осмыслению пережитого писателем времени и присущей ему общественной и духовной атмосферы подступаться нельзя: они зримо передают чувства исторического рубежа, сказавшегося во всех сферах жизни — социальной, психологической, эстетической; рубежа, прошедшего через личность автора и во многом определившего ее уникальный облик.
«Думается, что основная задача биографии в том и состоит, чтобы изобразить человека в его соотношении с временем, показать, в какой мере время было ему враждебно и в какой благоприятствовало, как под воздействием времени сложились его воззрения на мир и на людей и каким образом, будучи художником, поэтом, писателем, он сумел все это вновь воссоздать для внешнего мира». Видимо, Белый мог бы для определения общей задачи своих мемуаров воспользоваться этой чеканной формулировкой Гете[58]: мир, постигаемый через историю индивидуальной жизни, сам обретает свою биографию, рассказ о судьбе человека становится новым словом о мире и новым пониманием мира.
А. В. Лавров
На рубеже двух столетий
Введение
«На рубеже двух столетий» — заглавие книги моей, предваряет заглавие другой книги — «Начало века». Но имею ли право начать, воспоминание о «начале», не предварив «рубежом» его? Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа; я в начале столетия — сформировавшийся юноша, уже студент с идеями, весьма знающий, куда чалить, — знающий, может быть, слишком твердо, ненужно твердо; именно в теме твердости испытывал я в начале столетия удары судеб.
Правота нашей твердости видится мне из двадцать девятого года скорее в решительном «нет», сказанном девятнадцатому столетию, чем в «да», сказанном двадцатому веку, который еще на три четверти впереди нас; он не дан; еще он загадан и нам, и последующим поколениям.
Но кто «мы»?
«Мы» — сверстники, некогда одинаково противопоставленные «концу века»; наше «нет» брошено на рубеже двух столетий — отцам; гипотетичны и зыблемы оказались прогнозы о будущем, нам предстоявшем, в линии выявления его: от 1901 года до нынешних дней; «наша», некогда единая линия ныне в раздробе себя продолжает; она изветвилась; и «мы» оказались в различнейших лагерях; все программы о «да» оказались разорванными в ряде фракций, в партийности, в осознании подаваемого материала эпохи; когда перешли мы «рубеж» и он стал удаляться перед вытягивающимся началом столетия, то каждое пятилетье его нам рождало загадки, вещавшие, как сфинкс: «Разреши».
Мы — юноши, встретившиеся в начале столетия, и те немногие «старшие», не принявшие лозунгов наших отцов, и одиночки, боровшиеся против штампов, в которых держали нас; в слагавшихся кадрах детей рубежа идеология имела не первенствующее значение; стиль мироощущения доминировал над абстрактною догмою; мы встречались под разными флагами; знамя, объединявшее нас, — отрицание бытия, нас сложившего; и — борьба с бытом; этот быт оказался уже нами выверенным; и ему было сказано твердое «нет».
![Василий Стенькин - Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](/uploads/posts/books/45116/45116.jpg)