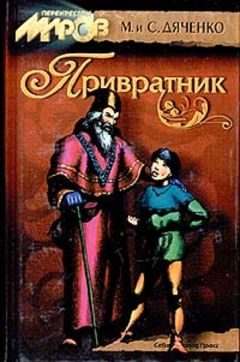Варлен Стронгин - Александр Керенский. Демократ во главе России
Александр Федорович дважды прочитал петицию и задумался.
– Вы молите царя о проведении им революции, – сказал он рабочему, – иначе готовы охотно умереть. Петиция противоречива. Если вы не рабы, то тон ее должен быть не столь угодливым. Царь не пойдет на политические требования. Вы предлагаете ему, по существу, отменить монархию. Лишить себя незыблемых, как он считает, уготованных ему Богом прав…
– Мы пойдем к Зимнему, передадим царю петицию, пусть прочитает наши мольбы, наш царь должен нас понять, – возразил Керенскому рабочий.
– Будет кровопролитие, возможно… – осторожно предупредил рабочего Керенский.
– Да что вы, господин хороший, – обиделся рабочий, – с чего бы это, аль царю нашей кровушки не жаль. Пойдемте с нами. Сами увидите… Царь поймет нас…
Захваченные стихийной верой в царя, народные массы двинулись 9 января к Зимнему дворцу. Среди них не было Керенского, хотя желание увидеть самому, как поступит царь с людьми, даже в петиции покорными ему, готовыми принять смерть, но все-таки поднявшими голос против произвола над ними, одолевало его. Он все-таки остался дома, решив, что не сумеет остановить никакой речью толпу наивных, надеющихся на справедливость людей. Он сочувствовал их страданиям, но не верил в благостность царя, не верил, что он может даже пойти на уступки своим верноподданным. Может случиться самое страшное – царь еще раз бросит их на колени, а кого и повалит на землю, после чего им уже никогда не подняться с нее. Оправдались наихудшие ожидания, и сердце Керенского буквально рвалось на части от каждого выстрела, доносившегося от Нарвских ворот, от Зимнего…
Потом он напишет в мемуарах: «События Кровавого воскресенья разорвали духовные узы, связывавшие царя и рабочих». Коллегия адвокатов, куда входил молодой присяжный поверенный, приняла решение помочь жертвам этой трагедии. «Я посещал рабочие семьи… Написал письмо, обращенное к гвардейским офицерам, напомнил им, что в то время, когда армия сражается за Россию, они на глазах всей Европы расстреляли беззащитных рабочих, нанеся ущерб престижу своей страны».
Керенский еще надеялся, что царь поймет, что сотворил с народом, вряд ли покажется перед ним, но хотя бы признается, что пошел на поводу у своего окружения, признает расстрел мирных жителей ошибочным, но царь молчал. Зато в его адрес прямо на улицах неслись проклятия людей. На Васильевском острове выросли баррикады. Не дремали большевики. Керенский догадывался, что включение в петицию царю политических требований, резких и явно невыполнимых монархией, было своеобразной провокацией. Керенский прочитал в большевистской газете «Вперед» отклики на событие 9 января. Находившийся за границей Ульянов писал: «Рабочий класс получил великий урок гражданской войны». Керенскому не верилось, что его бывший земляк-однокашник может призывать народ к кровопролитию в масштабе всей страны.
Но так и было. Большевики призывали к вооруженному восстанию. И в стране начались массовые забастовки политического и экономического характера. Но до вооруженных столкновений дело не доходило. К тому же в стане большевиков обнаружились разногласия. Александр не без интереса рассматривал карикатуру большевистского художника П. Н. Лепешинского. Она делилась на три части. Как объяснял автор, в первой части был изображен «повешенный за лапку мурлыка» Ильич; в окошко выглядывала «Крыса Онуфрий» – Г. В. Плеханов (между «предательскими дверцами» – «протоколами съезда» и «протоколами Лиги» – этими литературными свидетелями перехода Плеханова от большевиков к меньшевикам); на перекладине бойкие мыши – Мартов и Аксельрод, отдирающие лапку кота от перекладины, и молодой мышонок Троцкий; на хвосте кота пляшет седая мышь В. Засулич; острыми зубами держит хвост меньшевик Дан, а его коллега Потресов храбро трогает лапку «мертвого» кота. В стороне на бочке Инна Смидович. Всюду в мышином подполье стоят пустые бочки из-под диалектики с надписью «Остерегайтесь подделки» (намек на смешную претензию Плеханова считать марксистский диалектический метод мышления своей монопольной собственностью).
Второй рисунок изображал оргию мышей над «трупом» кота. Плеханов и Троцкий пляшут от радости под дудку «кота в миниатюре» (Дан – тезка Ленина по отчеству), Мартов («поэт Клим») читает надгробное слово, а Потресов поднимает бокал. Но радости и веселью скоро приходит конец.
Третий рисунок изображал пробуждение кота. В его лапах оказались и Мартов и Дан; мышонок Троцкий удирает без хвоста, а «несчастная Крыса Онуфрий» – Г. В. Плеханов, – «забыв о предательских дверках, свой хвост прищемил и повис над бочонком». Карикатура позабавила Керенского, особенно тот факт, что большевистские вожаки были изображены в виде мелких и отвратительных зверушек, заброшенных в подполье. «И „мурлыка“ не страшен, тем более за границей», – подумал Александр. Не нравилась ему эта экстремистская партия, но она все же была демократической. Поэтому Керенский не сбрасывал ее со счетов, когда писал: «Теперь, полностью освободившись от юношеского романтизма, я понял, что в России никогда не будет подлинной демократии, пока ее народ не сделает шага к единению во имя достижения общей цели. Я твердо решил, что… отдам все силы делу сплочения всех демократических партий в России».
Он любил живое дело, дающее результат, а адвокатская помощь жертвам Кровавого воскресенья вылилась в сочувственное славословие. Некоторые из них даже не осуждали царя, а недоумевали по поводу его поступка, думали, что, возможно, он не расслышал их прошение: «Мы к нему от чистого сердца, а он вдруг пулями. Непонятно – почему?» Гвардейские офицеры не ответили на его письмо – ни один, вроде и не читали. А может, подумали, что объясняться с каким-то полуадвокатишкой ниже их достоинства. И вдруг простая и ошеломляющая мысль поразила его сознание: «Ведь офицеры давали присягу царю! Могли ли они ослушаться приказа?!» Впервые в жизни Александр растерялся. Даже мысленно скатился до экстремизма, подумав, что в нынешних условиях индивидуальный террор неизбежен – уж очень хотелось побыстрее избавиться от аристократов-реакционеров, восхвалявших царя, каждое его слово, движение.
Среди приближенных монарха особым рвением выделялся его дворцовый комендант В. Н. Воейков. Он буквально обожествлял своего кумира, писал в воспоминаниях: «При высоком положении царя поражало его сердечное отношение к людям, ярко проявляющееся в его обращении к ним, так что про него можно сказать: „И на череде высокой не забыл святейшего из званий – „человек“… Моим жизненным крестом до конца дней будет мысль, что при всей преданности царю и царской семье я, проникнутый чувством долга бывший Дворцовый Комендант Государя, оказался бессильным в борьбе с окружающим престол предательством и не мог спасти жизнь того, от кого как я, так и все русские люди видели только одно добро“. К ним он не относил Керенского и в своих воспоминаниях приводил, правда весьма осторожно, как версию слова друга своего детства, „родственник которого по матери, Федор Керенский, якобы в молодости женился на особе, у которой уже был сын Аарон Кирбиц. Федор Керенский, происходивший из русской православной семьи, усыновил Аарона Кирбица, который и превратился в Александра Федоровича Керенского“. Попытка ярого антисемита В. Н. Воейкова причислить Керенского к „вражеской нации“ была настолько нелепой и лживой, что даже не пригодилась не менее льстивым и верным поклонникам монарха, чем его дворцовый комендант.