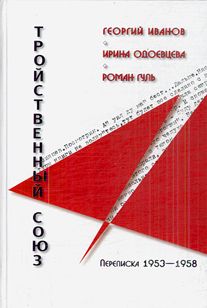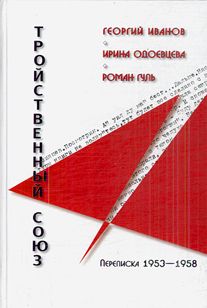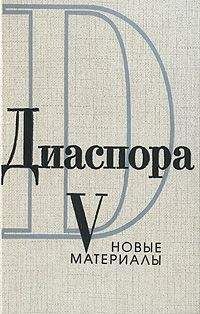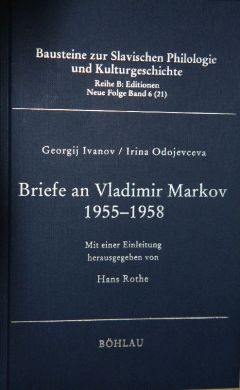Ирина Муравьева - Ханс Кристиан Андерсен
Несколько дней спустя он сидел дома и думал о рождественских подарках: если их хорошенько представить себе, то это будет почти как на самом деле!
На лестнице послышались шаги, и в комнату вошел какой-то солдат, худой как щепка, с измученным лицом. Он уставился на мальчика рассеянным тяжелым взглядом, потом слабо улыбнулся и кивнул головой:
— А, малыш, это ты… Как же ты вырос!
В звуках хриплого слабого голоса было что-то очень знакомое. Мальчик застыл на месте, всматриваясь.
— Что, не узнал? — с горечью спросил сапожник, тяжело опускаясь на табурет. — Видно, хорош я стал, лучше некуда…
Только теперь Ханс Кристиан окончательно понял, что это отец. Господи, почему же он так изменился?
— Да что обо мне говорить, расскажи лучше, как у вас тут дела, — отмахнулся отец от расспросов.
И Ханс Кристиан рассказывал и про свой театр, и про мышей, и про старую Иоганну, а потом пришла мать, пошли слезы, расспросы и восклицания, мальчика послали за бабушкой, начали заглядывать соседки.
— Слава богу, слава богу! — повторяла мать, но тут же заливалась слезами. — И на что же ты похож — краше в гроб кладут!
— Будет тебе, Мария, — останавливала ее бабушка, — радуйся, что вернулся живой, ведь под пулями был!
— Даже и под пулями побывать не пришлось!.. — сумрачно отозвался Андерсен и, махнув рукой, закашлялся.
Невезение не покинуло его и в чужих краях: все это время он переносил грязь и холод, утомительные ночные переходы, скверную пищу, духоту и вонь казарм совершенно зря. Их полк застрял в Гольштейне и ни разу не участвовал в сражениях. А потом принц Фредерик заключил мир, и солдат отправили по домам. Мечта об офицерских эполетах лопнула как мыльный пузырь, осталось только вконец расстроенное здоровье.
Опять они были в своей комнате и вечером сидели за столом все вместе, опять с утра Ханса Кристиана будил стук сапожного молотка. Но удары его были теперь неровными и прерывистыми: у отца дрожали руки, и он быстро уставал.
— Не отчаивайся, Ханс, будешь побольше есть, тебе полегчает! — повторяла ему Мария.
— Где там полегчает!.. Скоро совсем стану калекой и не смогу работать.
— И то не беда! У меня силы хватит поработать за двоих, а там и малыш подрастет, начнет помогать.
Она обегала всех оденсейских знахарок и каждый день надеялась на новое целебное средство.
— Глупости все это! — тоскливо сказал однажды сапожник. — Эти старухи только и норовят из тебя последние гроши вытянуть, а что толку? Все равно моя песенка спета. Да и поскорей бы уж, а то и тебе лишние заботы, и мне мученье…
— Нельзя так говорить, Ханс, это грех! — огорчилась Мария. — Бог лучше нас знает, что делает. А если кто страдает на земле, тот попадает в царствие небесное.
— Кто тебе это сказал, Мария? — резко спросил Андерсен.
— Как это кто? — растерялась Мария.
— Да, вот кто? Уж не тот ли прыщавый семинарист, племянничек бургомистра, который когда-то нашептывал тебе любезности и предлагал деньги, чтоб ты с ним согрешила? А ведь этот подлец стал пастором! Так, может, он тебе и объяснил про грехи и про царствие небесное?
Ханс Кристиан краем уха услышал этот разговор, но истолковал его по-своему: отец сердится за то, что племянник бургомистра ухаживал за матерью. Ну, а раз ухаживал, значит, ясное дело, хотел жениться… Подумать только, они бы жили тогда в бургомистровом особняке, вот чудно! Но раз мать не вышла за этого племянника, стало быть, отца она любила больше, тогда чего же ему сердиться? Наверно, все это потому, что он больной…
— Что случилось с отцом, почему он вернулся такой желтый и худой? — спросил мальчик однажды у старой Иоганны, которая всегда охотно отвечала на его вопросы. Она не затруднилась объяснить дело и на этот раз:
— Твоего отца высушило зелье! Помнишь, осенью мать ходила к гадалке? Ну, так вот: гадалка по кофейной гуще узнала, что твой отец жив и находится далеко, в чужом городе. Тут она и уговорила твою мать заварить зелье, которое вернет его домой. Много чего в такое зелье кладется — и мох с крыши родного дома и даже листок из молитвенника, — а когда оно закипит в горшке, то должно уже кипеть не переставая. И тогда на человека, где бы он ни был, находит тоска по родному дому. Нет ему покоя, день и ночь он спешит через горы и реки, не разбирая дороги. Ни дождь, ни буря его не могут остановить. Понятное дело, после такого пути не скоро оправишься.
Это объяснение вполне убедило Ханса Кристиана. Так же думала и мать: он слышал, как она говорила тетке Катрине, что никогда бы не согласилась заваривать зелье, если б знала, как оно подействует. Только отец сказал, что все это бабьи россказни и заболел он от плохой жизни, а вернулся потому, что Дания заключила с неприятелем мир.
Но отец ведь вообще ничему такому не верил и даже дьявола не боялся. А Ханса Кристиана страхи обступали со всех сторон. Он удивлялся, как это все другие слушают страшные рассказы, ахают, ужасаются, а потом ходят себе как ни в чем не бывало. Для него же все слышанное оживало с удивительной яркостью.
Проходя мимо старой церкви, он зажмуривал глаза: ему казалось, что оттуда выглядывает бледный окровавленный король Кнуд, в незапамятные времена убитый у алтаря врагами. За кладбищенской оградой что-то белело в темноте — скорее всего привидения. Но хуже всего было, когда мать посылала его вечерами в соседнюю деревеньку за парным молоком. По дороге, обсаженной высокими каштанами, через мост, мимо леса, мимо холма Монахинь — и вот уже домики с резными красными ставнями выглядывают из-за кустов бузины и шиповника. Но на обратном пути становилось темно, направо и налево — на холме Монахинь и на Монастырском болоте — зажигались страшные блуждающие огоньки. Правда, он родился не в воскресенье, но кто знает, а вдруг все-таки ему встретится призрак черного монаха с книгой в руке и уставится на него пронизывающими глазами?.. Расплескивая молоко, он мчался, не переводя дыхания, и только перейдя мост, немного успокаивался: говорят, что привидения не могут переходить через реку!
Дома он с пересохшим горлом залпом выпивал так дорого доставшийся ему стакан молока и постепенно приходил в себя.
Отец грустно смотрел на него: вот и мальчик растет суеверным, невежественным… Неужели и ему не видать лучшей жизни? Хорошо, хоть книга он любит, может, они еще выведут его из темноты…
Ни снадобья знахарок, ни заботы Марии не помогали: Ханс Андерсен медленно умирал. В течение двух лет жизнь вытекала из него, как вода из надтреснутого сосуда. Он уже совсем не мог работать, перестал перечитывать любимые книги, интересоваться театром. Только старая ненависть к суевериям не исчезла в нем, и он задыхался среди постоянных разговоров о приметах и предсказаниях.