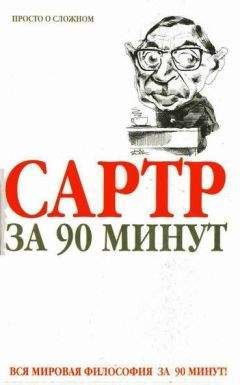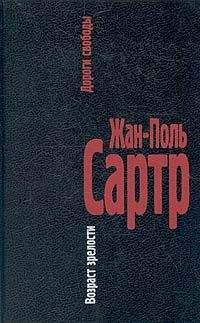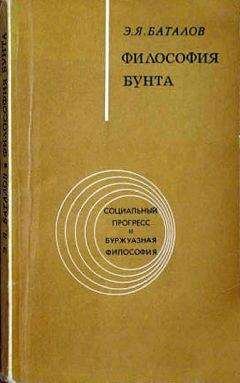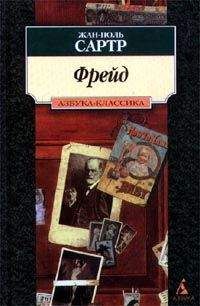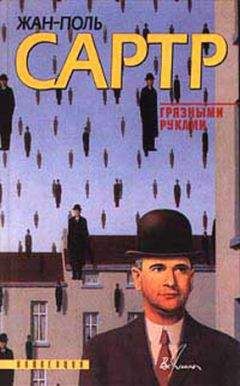Михаил Киссель - Философская эволюция Ж.-П. Сартра
В философском мышлении эта милая сердцу угнетенных и обездоленных сказка о потерянном и возвращенном рае превратилась в так называемую «концепцию отчуждения». В философии она появилась задолго до того, как получила это свое название, а название ей дал Гегель, виртуозно разработавший и всю схему в целом. Нам нет нужды сейчас подробно говорить о ней, и мы ограничимся лишь основной идеей, а таковой была идея развития как самообогащения духа через добровольный уход от себя в чужую стихию и возвращение с победой. Отчуждение поэтому — необходимый момент развития: только покинув родной свой дом, а затем претерпев все необходимые испытания «за морем», дух становится тем, чем он должен быть поистине, по-настоящему обретает себя. В конце концов получается, что развитие есть возвращение к началу, соединение с собой через временную утрату, добровольную разлуку и преодолимую боль.
Если приложить эту общую схему к человеческой истории, то выйдет примерно то же самое, что можно прочитать в Библии: вначале дух божий был сам по себе, затем он сотворил вселенную и человека и через человеческие деяния стал действительно богом. Содержание же истории и образует становление царства божия на земле: вначале человек живет, не сознавая своей божественной сущности и святого предназначения, и соответственно этому живет как попало, в недостойных себя социальных условиях. Наконец ему «открывается» слово божие, но довольно долго оно остается почти что «всуе», только словом, а внешнее бытие его остается прежним, и только под занавес мировой истории очеловечивается вся окружающая реальность, включая и государственное устройство, или — что для Гегеля то же самое — божественная сущность человечества становится действительностью, т. е. наступает царство божие на земле, а история прекращает течение свое.
Таким образом, у Гегеля мы встречаем оптимистическую разработку прустовской темы; «утраченное время» все-таки находится, достигается даже гораздо большее — полное освобождение от времени, ибо это и означает конец истории, вневременное вечное блаженство. Можно сказать также, что в гегелевской философии находится ответ на тему «Фауста» Гете. Тема эта — бесконечность человеческих стремлений, вечное движение человеческой натуры, никогда не успокаивающейся на чем-то определенном и ограниченном, каким бы ни казалось оно привлекательным в тот или иной момент. Тему эту можно обозначить еще как вечную погоню за абсолютом, за абсолютным воплощением идеала истины, красоты и добра, за объединение этих идеалов в жизни человека. Человеку мало быть только ученым, ему мало и жизни в царстве красоты, ему необходимо общественное поприще, социальное действие, посредством которого человек превращает свои чаяния в устои реальной жизни. Одним словом, Фауст — это образ целостного человека, вдохновляющегося социально значимыми задачами.
Вот почему творение Гете живет в веках как великий образец гуманистической литературы, где победоносная мощь поэтического выражения соединяется с необыкновенной глубиной проникновения в то, что мы теперь называем на отвлеченном языке «проблемой человека». Как и всякое произведение искусства, «Фауст» не дает, разумеется, теоретического решения проблемы, но лишь «материал» для философско-исторического размышления на эту тему. И вот Гегель, как нам представляется, следующим образом расшифровал загадку «Фауста»: формирование целостного человека — результат всемирной истории и одновременно завершение ее. Фауст обещал отдать душу дьяволу, как только у него возникнет желание «остановить мгновенье» и застыть в блаженстве достигнутого совершенства.
По Гегелю, это мгновение наступает, когда все человечество (а не отдельный исключительный индивидуум) реализует принципы свободы и справедливости в правильно организованном обществе, и эта эпоха, по его мнению, в принципе уже наступила после того, как Великая французская революция разбила «неправовой произвол» феодализма. В этом суждении Гегеля было не только идеалистическое заблуждение, но и великая историческая иллюзия победившего класса, забывшего об исторических границах своих свершений. Гегель завершает и подводит итог той эпохе интенсивнейшего культуротворчества, символом которой и стал Гете, тогда как Пруст принадлежит к совсем иному периоду буржуазной культуры.
У Пруста мы сталкиваемся с пессимистическим вариантом идеи отчуждения: счастливое прошлое не воспроизводится в настоящем и не сохраняется навек в какой-то исключительный миг, имеющий быть в будущем. Конечно, гегелевский оптимизм в определенной мере опирался на «гарантии» религиозного утешения, но была у него еще и историческая вера в лучшее будущее. Вот ее-то и не было у Пруста, ибо он был правдивым художником эпохи буржуазного заката. В этот период разочарование в настоящем и тревога перед будущим и стали предпосылкой глубокой, неотвязной тоски по прошлому, с таким изощренным мастерством изображенной в его эпопее.
И сам образ человека радикально изменился: вместо исторического деятеля, стремящегося все вперед и вперед, — почти бесплотная тень, утонченно-изящный хранитель воспоминаний, в них растворивший собственную личность, «тень без особых примет». И если искать философские аналогии такому представлению о человеке, то мы опять должны вернуться в лоно феноменологии с ее стремлением «разложить» жизнь сознания на чистый временной процесс, в котором отдельные моменты времени, взаимопроникая, обретают специфическое значение прошлого, настоящего и будущего по отношению друг к другу.
Начало этому сведению сознания к «чистой длительности» временных моментов, «цепляющихся» друг за друга и вместе образующих живое целое сознания, положили еще В. Дильтей и А. Бергсон, но систематически эту операцию проделали Э. Гуссерль и М. Хайдеггер на основе представления об «интенциональности», или «экстазах», как предпочитал выражаться Хайдеггер. «Экстазы» образуют внутреннюю структуру времени, внутреннюю структуру самого «дления», которое ведь и состоит в том, чтобы беспрестанно меняться и проводить невидимую грань между тем, что было, есть и будет. Такое представление перешло от Хайдеггера к Сартру.
Но в нашей характеристике литературно-философских влияний, в атмосфере которых сформировался художественный стиль Сартра, не хватает пока еще одного звена. Речь идет о сюрреализме. Сюрреалисты объявили себя «последователями Маркса и Рембо». Вот что заявил глава и первый теоретик этого направления Андре Бретон: «Преобразовать мир, — говорит Маркс. Изменить жизнь, — говорит Рембо. Эти два лозунга для нас одно и то же». Суть поэтической реформы А. Рембо заключалась в том, чтобы полностью слить поэзию с жизнью, сделать ее не копией реальности, а самой реальностью. В этом его замысел был прямой противоположностью заветам поклонников чистого эстетизма, желавших, подобно другому влиятельнейшему французскому поэту конца прошлого века С. Малларме, соорудить из металла поэтической речи нетленное здание чистой красоты. Рембо, напротив, требовал сломать сложившиеся каноны поэтического выражения и перенасытить речь новым смыслом, равнозначным бессмыслице для приверженцев отжившей эстетической рутины.