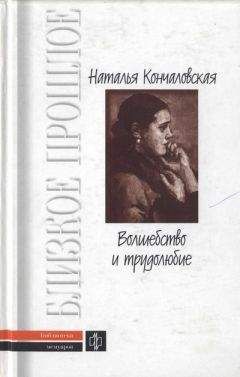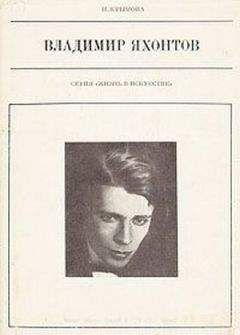Наталья Кончаловская - Дар бесценный
— Ну что ж, Суриков, поезжайте учиться в Петербург, ваше дарование стоит того!.. А вот как матушка? Согласится ли на ваш отъезд? — спросил Петр Иванович.
— Да я ведь ничего определенного ей не говорил, — пролепетал Вася, не смея верить случившемуся.
— Тогда, пожалуй, надо бы пригласить ее сюда, — сказал Замятнин.
Вася кинулся вниз за матерью. Прасковья Федоровна наскоро достала из сундука лучшее свое платье, канифасовое, повязала голову шелковым платочком и поднялась к квартирантам.
За вечерним чаем сидели у Варвары Павловны губернатор и городской голова. В полной растерянности Прасковья Федоровна молча поклонилась и села рядом с хозяйкой.
— Вот что, Прасковья Федоровна, — обратился к ней Замятнин. — Согласны ли вы, чтобы сын ваш стал художником?
Прасковья Федоровна вспыхнула и замахала обеими руками:
— Да что вы, что вы! Да как можно? Средств у нас для того нет никаких!..
После долгих выяснений и уговоров наконец удалось убедить Прасковью Федоровну в том, что у сына ее большой талант и что надо его непременно отправить в Петербург, в Академию, что там из него человек выйдет и что Петр Иванович поможет им. Прасковья Федоровна смягчилась, расплакалась и дала согласие на отъезд сына.
Поздно вечером гости собрались домой. С волнением поблагодарили Суриковы Кузнецова и Замятнина. Поклонившись по-старинному в пояс, Прасковья Федоровна взяла Васю под руку и спустилась к себе. Там ждал их истерзанный волнением брат Саша.
— Ну что? — спросил он у Васи, подпрыгнув от нетерпения.
— Все, Сашка, все! Еду в Питер! — кричал Вася, обняв брата так, что у того хрустнули кости.
В эту ночь Вася не мог заснуть от навалившейся на него радости. Казалось, весь мир перевернулся. Вася чувствовал прилив сил, он был полон надежд и какого-то сумасшедшего ликования. Он готов был каждую минуту петь, плясать и смеяться без причины.
Целый месяц жил он, опьяненный мыслью о предстоящем отъезде. Все казалось ему волшебно-прекрасным. Он приходил в канцелярию и ревностно брался за ненавистные ему ранее бумаги, доклады и приказы. Вся его скучная жизнь писаря озарялась теперь мечтой о будущем.
В Питер!
Морозная ночь стояла накануне отъезда Васи в Петербург. Ледяной ветер мел по Благовещенской улице поземку. В доме Суриковых далеко за полночь в окнах нижнего этажа горел свет, от окна к окну двигалась тень: Прасковья Федоровна собирала сына в дальний путь.
Вася, набегавшийся перед отъездом, богатырски спал, прикорнув на сундуке за печкой, и, наверное, видел беспечные юношеские сны — последние в родительском доме. Только перед рассветом мать прилегла отдохнуть. Но когда сыновья встали, уже в столовой кипел самовар, пахло свежеиспеченным хлебом; под полотенцем остывали румяные шанежки и пирожки на дорогу, были сварены яйца. А Прасковья Федоровна укладывала в мешочек заранее приготовленные и замороженные пельмени, они гремели в мешке, словно камушки. Эти пельмени бросали в кипяток на постоялом дворе, и через десять минут путешественникам был готов обед.
В корзину для провианта Прасковья Федоровна уложила куски вяленого на солнце оленьего мяса, которое сибиряки называли «пропастинкой», уложила любимого чая и горшочек свежесбитого масла. Баул с бельем и теплыми вещами был уже уложен. Саша помогал матери, изредка смахивая непрошеную слезу. Он страстно любил брата и втайне горевал о близкой разлуке. Он знал, что Вася едет не один, а со старым архитектором с кузнецовских приисков — Хейном, которого Петр Иванович посылает в Петербург на лечение. Он знал, что до Москвы едет с Васей молодой семинарист Дмитрий Лавров, способный художник, которого направляют в Троицкую лавру, в школу иконописи. И все-таки Саша беспокоился, уже тосковал и почти ждал писем с дороги, которая еще не началась.
Вася держался бодро, хоть забота подстерегала его словно озноб: как тут проживут без него мама и Саша? Прасковья Федоровна, то покрываясь багровыми пятнами, то вдруг бледнея, суетилась по дому — не забыть бы чего! Во внутренний карман Васиной поддевки она положила последние тридцать рублей, разменяв их на рублевые ассигнации, и для верности заколола карман большой булавкой.
Вася, как во сне, еще раз прошел по всем комнатам, втягивая всем существом дорогое тепло от печей, где в раскрытых дверцах по раскаленным углям гулял синеватый пламень. На столе в столовой стоял медный самовар, остывая; он еще тоненько пищал, словно скуля и прощаясь с молодым хозяином, который с детства привык глядеться в его медные начищенные бока, смеясь искаженному отражению. А в блюдце с недопитым Прасковьей Федоровной чаем гляделась зажженная перед образом лампада и колебался язычок пламени…
Неслышно ступал Вася валенками по домотканым половикам, и хотелось ему поклониться каждому кустику в цветочном горшке, и посидеть на каждом креслице, — к ним он когда-то подходил с гвоздем, чтобы оставить на них свои первые «творческие порывы» в виде незамысловатых рыбок и домиков. Все, все было до боли в сердце дорогим и близким…
За примороженными окнами послышался скрип полозьев и звон бубенцов. Приехали… Приехали за ним!..
— Васенька! — Прасковья Федоровна стояла в дверях с тулупом и шапкой.
Вошел запыхавшийся Саша, одетый в полушубок.
— Присядем! — сказал он.
Все присели в зальце, молча, как полагается, глядя друг на друга. Через минуту поднялись. Вася накинул тулуп, крепко обнял мать и брата. Решительно нахлобучил на свои черные как смоль вихры смушковую шапку, схватил баул и заторопился к выходу. За ним, с корзиной, вышел Саша. Прасковья Федоровна, не попадая в рукава, кое-как натянула шубу, закуталась в шаль и поспешила за сыновьями.
У ворот стояли две кошевы, запряженные тройками. От лошадей валил на морозе пар, они перебирали копытами, мотали головами с заиндевевшими челками. В кошевах сидели Васины попутчики. Он поздоровался, легко вскочил в первую кошеву и оказался рядом с Лавровым, закутанным в доху. Во второй кошеве сидел старичок Хейн. Саша подал Васе баул и корзину. Вася уселся на кошму, под кошмой было сено, под сеном два больших замороженных осетра, которых Петр Иванович Кузнецов посылал своей семье в Петербург.
У ворот дома сиротливо маячила темная фигурка Прасковьи Федоровны. Она пыталась ободряюще махать сыну рукавицей, но глаза ее из-под нависшей теплой шали, совершенно сухие, горели такой тревогой и тоской, что Вася рванулся к ней и вдруг завопил не своим голосом на всю Благовещенскую:
— Ма-амынька-а-а-а!..
Ямщик хлестнул лошадей. Васин вопль потонул в визге полозьев и в первом всплеске поддужных звонков. Пристяжные отвернулись от коренников, и обе тройки понеслись, далеко отбрасывая копытами комья мерзлого снега.