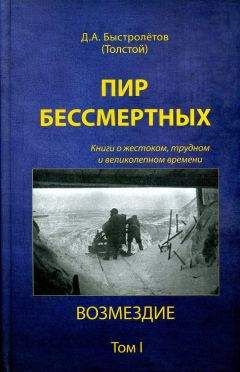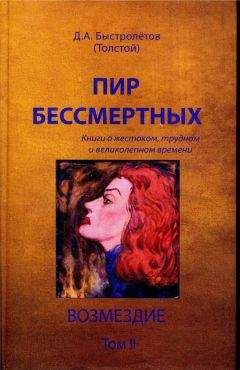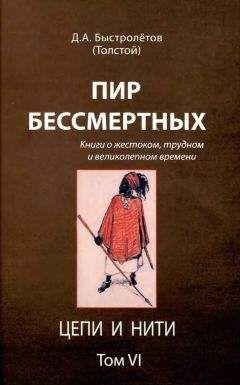Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 3
— Ты, курносая, выходи! Пойдёшь сейчас к начальнику! — командует Мишка Удалой, молодой нарядчик, перешедший в суки из честных воров. — Ты тоже! Да не ты, вон та, в платке.
— Мишка, для меня возьми вон ту, в пальто, — указывает глазами дядя Петя на высокую худую девочку в синем обшарпанном пальтишке и шапочке, из-под которой торчат косички, от грязи похожие на серые крысиные хвосты.
— А мне рыжую, маленькую, — шепчет дядя Вася.
— Да на что тебе такая гнида? Выбирай повыше, которая в теле! Ну и этап: все как воблы, и выбрать нечего…
— Хочу эту!
— Ладно. Эй, Морковка, выходи! Вещи оставить на месте. Не бойся! Сейчас все вернётесь обратно. А ты, Султанов, мигом обернись с баландой. Пайки возьми у хлебореза, скажи ему — я всё учту. Понял? Живо! Всё, давай в небесную канцелярию! Там мы будем принимать.
Дяди перемигиваются и шмыгают в разные стороны.
Теперь времени остаётся мало, я должен участвовать в комиссовке. Вприпрыжку бегу с одной точки к другой.
В стороне от всех других строений в углу зоны стоит чистенькая избушка. Обычно вокруг ни души, лагерники обходят её на расстоянии: это морг. Но сейчас дверь полуоткрыта, и я издали слышу приглушённый, но оживлённый говор. Не открывая двери, смотрю внутрь. На штабеле промёрзших голых трупов, прикрытых рваным брезентом, СИДЯТ отобранные дядями девочки. У каждой в руке по миске
горячей баланды и по куску хлеба. Они торопливо тянут жижу через край, железо обжигает им губы, все морщатся, но на лицах написано блаженство. Глаза не отрываясь смотрят на ведро: в нём курится остывающая баланда. От усердия по лбам текут капли пота. Приторно пахнет трупами и горячей пищей, но девочки ничего не замечают — это минуты острой радости жизни. Дверь в другую комнату тоже полуоткрыта, там приглушённая возня дядей около высокого стола, на котором в другое время делают вскрытия.
— Следующая кто? — строго спрашивает Мишка Удалой, пропуская обратно стриженную девочку с косичками, которая ещё держит в руках синее пальтишко и платок.
— Ты, Валька! Иди!
— Меня уже оформили. Катька одна осталась. Ишь, прилипла к миске. Иди, Катька, дожрёшь опосля!
Катька нехотя отрывается от миски и, дожёвывая на ходу хлеб, исчезает за дверями.
— Ты чего ревёшь? — развязно спрашивает девушка постарше рыжую конопатую девчонку.
— Больно як було… Сейчас нутро болыть… — хнычет та, жадно хлебая баланду из запрокинутой миски: это её выбрал жирный каптёр дядя Петя, проворовавшийся директор одного из московских магазинов. У девочки слёзы текут по конопатым грязным щекам прямо в горячую жижу. Она торопливо утирает нос рукой, в которой зажат хлеб, и глядит на ведро: опоздать нельзя. Здесь те, кто постарше и посильнее, расхватывают всё. Это — жизнь без милосердия.
— Поболит и перестанет! — нагло отвечает опытная. — Здоровей будешь! Привыкай, не у мамы, Морковка.
Девочки хихикают.
— И придумает же: Морковка…
— А это её нарядчик, дядя Миша, так прозвал! — девушка окончила есть, вынула из-за уха папироску, подаренную Удалым, закурила и вдруг усмехнулась: — А вообще, я вас, девочки, поздравляю! Это радостный для вас день: вы теперь оформленные. Поняли? Дамы!
Дамы насупились и дружно засопели, но ни одна не ответила на слова. Началась делёжка остатков.
«Тут ничего не поделаешь, — думал я по пути к бане. — Нарядчик — любимец и слуга опера, ему доверие и защита. Он — царский опричник, опора трона. Я — враг народа и штрафник. Нашу присланную из Москвы вольную начальницу на разводе прямо при заключённых кое-кто из начальства кроет похабными словами. Она бессильна, как и я. Здесь ничего не поделаешь, потому что корень зла не в людях, а в системе — двуликой, противоречивой смеси ленинского разумного человеколюбия со сталинской звериной бесчеловечностью. Эта система негодяям развязывает руки, а ещё не испорченных людей превращает в негодяев. Потому что в основе её положено бесправие одних и своеволие других. Рабство. Как в Африке. Морковка — это советская Люонга».
Я как раз тогда заканчивал черновик рассказа об африканской девушке и был всецело занят ею. Но много думать заключённому врачу некогда. Надо в бане доглядеть, чтобы дядя Коля не украл мыло и достаточно подогревал бы воду; сэкономленные дрова он меняет дяде Пете на больничное питание. А самое главное, чтобы выдержал срок прожарки одежды — сорок минут. Я отвечаю за вшивость, и отвечаю головой!
Когда начальником лагпункта стал бывший одесский делец и комбинатор Бульский, укрывшийся в лагерной системе от призыва на фронт, то лагерь, выполняя своё основное назначение — поставку свиных тушек и пшеницы для армии, оброс ещё и множеством дополнительных функций, которые имели одно назначение — дать начальнику материал для хитроумных комбинаций, то есть в конечном счёте явиться дополнительным источником личного обогащения. Либеральный и дельный красный крепостник Бульский мне очень напоминал описанного Гоголем либерального и дельного царского крепостника Костанжогло: оба умели на мелочах делать деньги. В канун сорок четвёртого года из больничной ваты и марли я сделал начальнице Деда Мороза и раскрасил его медицинскими красителями — жёлтым акрихином, красным стрептоцидом, бриллиантовой зеленью и т. д. Тогда же вырезал из фанеры и раскрасил фигурки зверей для детей старшего надзирателя Плотникова, человека очень порядочного и многодетного, жившего в вольном городке при лагере хуже любого заключённого. Он знал о моей связи с Анечкой и уважал и её, и меня. Мы его любили. Начальник увидел мою работу, и в его одесской голове немедленно сложилась новая комбинация: он очистил комнату при столярной мастерской за зоной и устроил там производство игрушек для местного населения. Игрушек тогда в продаже не было, и родители маленьких детей остро чувствовали их отсутствие. Начальник где-то добыл масляные краски ярких цветов и тонкие доски, из стариков-инвалидов и малолетних девочек составил художественную бригаду, и дело закипело. Самодельные игрушки сбывались на рынке в городе Ма-риинске и в ближайших сёлах в обмен на пищепродукты для семей Бульского и других начальников. Я был назначен художественным руководителем и получал дополнительно сто граммов хлеба в день и одну соленую горбушу в месяц. Выводили меня в мастерскую два раза в неделю на полдня.
Меня это забавляло: нельзя же жить только чужими болезнями, мусорными кучами и моргом. Однако сделать чёткий контурный рисунок слона оказалось делом непростым: я забыл, как выглядит слон! Тут же выяснилось, что мне трудно нарисовать автобус или самолет. Общее представление, конечно, осталось, но характерные детали уже стёрлись из памяти. Я стал забывать мир, в котором когда-то жил… Это было весьма поучительно, очень грустно и совершенно неожиданно. Однажды я стоял у верстака, чертил на доске силуэты зверей и раскрашивал образцы для бригады — мы делали украшения для подвешивания на стену и врезывания в тележку на четырёх колёсиках для катания на полу.