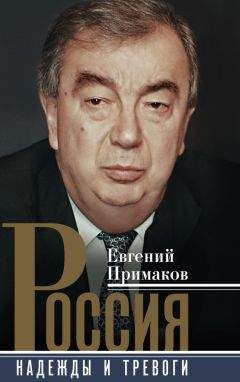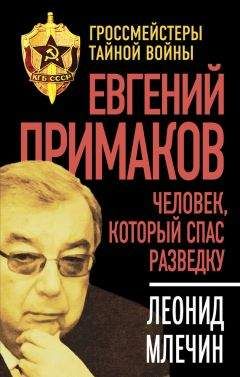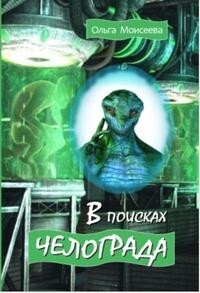«Я много проскакал, но не оседлан». Тридцать часов с Евгением Примаковым - Завада Марина Романовна
Из последнего — с наслаждением открыл для себя полемику Пушкина и Чаадаева по поводу славянофильства. Известно, что Петр Чаадаев был завзятым западником. В своих письмах он договаривается до того, что Россия не сыграла никакой исторической роли и, не будь монгольского нашествия, многие не знали бы о существовании такой страны. Пушкин, который никогда не являлся славянофилом, соглашаясь с какими-то аргументами Чаадаева, замечательно ему возражает. Что меня восхитило, так это культура спора. В письмах отсутствует неумный полемический задор, когда стороны дают друг другу по морде и льется кровь. Интеллектуальная дискуссия пронизана уважением. И Пушкин, и Чаадаев не забывают, что они друзья. Расходясь во взглядах, каждый остается в добрых отношениях с оппонентом. Этому надо учиться.
— При всех перегрузках и занятости невозможно представить вас банально «замотанным». Сомнительно, что вы придерживаетесь постулата: жить, чтобы работать, работать, работать… Скорее — работать, чтобы полнокровно жить?
— Верно. Стараюсь быть в форме. Плаваю. По утрам принимаю холодный душ. График плотный, расписан по часам. Плюс командировки. Вчера за полночь вернулся из Петербурга очень довольный собой. Утром туда прилетел и в течение дня успел помимо разных встреч выступить в Физико-техническом институте имени Иоффе и в Санкт-Петербургском гуманитарном университете.
В университете вначале все пошло кувырком. В первых рядах была девушка, и ректору, который меня представлял — это заслуженный человек, много хорошего сделавший в своей жизни, — показалось, что она не слишком чинно сидит. Прервав свой рассказ о моей персоне, взялся студентку отчитывать: «Что ты себе позволяешь? Почему развалилась? Не умеешь себя вести на серьезном мероприятии — дай мне зачетку и закрой за собой дверь». Когда испуганная девушка уже собиралась покинуть аудиторию, я взял зачетку у ректора и подозвал бедолагу: «Детка, вот твоя зачетка. Садись на место. Ваш ректор пошутил». Молодежь отреагировала такими бурными аплодисментами, что я понял: как бы ни выступил, меня ждет триумф. (Смеется.)
— С годами не притупляется эйфория от разного рода триумфов? В противовес тому, как у неудачников появляется обреченная привычка проигрывать?
— Слава богу, я не так часто проигрывал, чтобы обрести столь дурную привычку. В придачу у моей психики есть одна особенность: достаточно мимолетной удачи, чтобы поднялось настроение. Например, прошедшую в ТПП научную конференцию широко осветили СМИ, выделив те аспекты, которые важны для меня. Не триумф и не повод для эйфории. Но мне для хорошего расположения духа хватает.
Нет, с возрастом чувства не притупляются. Так же как в молодости, способен впасть в депрессию, если что-то не ладится. Но хмурое состояние не затягивается.
— Ваше самое большое разочарование последних лет? — В перестройке. Точнее, в том, как прошла перестройка. Люди моего поколения особенно остро и радостно восприняли перемены с приходом Горбачева. Я был в восторге уже от того, что он выступает без бумажки, встречается на улицах с людьми, говорит правильные, справедливые вещи. А сегодня, видя, как многое мы упустили, обидно.
Глава вторая
Власть: воля и неволя
— Четыре года назад Михаил Сергеевич говорил нам в интервью, что существовал силовой вариант в отношении «беловежской тройки». Президенту СССР предлагали арестовать Ельцина, Кравчука и Шушкевича как заговорщиков. «Но я не стал цепляться за власть. Отклонил все это. Для меня было принципиально — без крови!» Ну и чего Горбачев добился своим идеализмом? Того, что на протяжении последующих почти десяти лет «столько было маленьких форосов, попыток унизить, все, как под током, дергалось»? Недаром посреди разговора Михаил Сергеевич с досадой воскликнул:
«Этого я Борису простить не могу. Надо было его отправить в банановую республику — бананы заготавливать…» На ваш взгляд, в декабре 1991 года Горбачев проявил безволие, мягкотелость?
— Мне ничего конкретно не известно о «силовом варианте». Но гипотетически он мог иметь место. Горбачеву явно не хватило решительности. Не требовалось даже никого арестовывать. Достаточно было дать команду войскам Белорусского округа взять в кольцо Беловежскую Пущу и изъять документы, которые заговорщики подписали на коленках, подбадривая себя немалым количеством выпитого. Думаете, они не боялись ареста? До крови бы не дошло… Мало ли чего Ельцин хотел! Украинский руководитель, равно как и белорусский, являлись людьми не самого храброго десятка — не осмелились бы вывести толпы на улицу. Тем более что в руках Горбачева была мощная дубина: только-только прошел референдум, на котором подавляющее большинство граждан СССР высказались за сохранение общего государства. Что вы! В таких условиях случившееся в Беловежье становилось путчем, антиконституционным заговором!
— Но чем объяснить, что Горбачев не стал отчаянно бороться за выпадающую из рук власть? Со слов близкого к нему человека знаем, что Горбачев, Шеварднадзе и Яковлев, получив известие о Беловежском соглашении, сутки просидели в кабинете президента СССР, ломая головы, как поступить, и не придумали ничего менее аморфного, нежели «выразить протест».
— Понимаете, Горбачев прилетел из Фороса другим человеком. Хотя вначале не сознавал этого. Думал, что вернулся в том же качестве, в котором уезжал в отпуск. 21 августа я летел в Москву с ним и его семьей. Не обошлось без выпивки. Михаил Сергеевич был возбужден… Спускаясь по трапу, усталый, взволнованный Горбачев вряд ли отдавал себе отчет в том, что на московскую землю ступает не победителем, что для него этот миг — не happy end. Я шел сзади и постарался быстрее посадить президента в машину: «Уезжайте. Вам надо выспаться, отдохнуть». Но он успел деловито бросить нескольким стоящим рядом: «Завтра всех вас жду у себя в девять ноль-ноль».
Наутро Горбачев быстро сделал ряд кадровых замен. Спросил: «Кого поставить на КГБ?» Я предложил Леонида Шебаршина: занимается разведкой, в путче не участвовал. Министром обороны президент назначил начальника Генерального штаба Михаила Моисеева… Разошлись. Спустя короткое время Ельцин узнал о совещании и тут же раздраженно вмешался: «Что?! Никого из них не будет!» И не было. Шебаршин с Моисеевым руководили один день.
На Министерство обороны Ельцин поставил маршала авиации Шапошникова, а на КГБ — Бакатина. Поначалу Борис Николаевич захотел создать в РСФСР параллельный КГБ. В том числе — разведку. Ведь Советский Союз еще существовал. Но потом понял (или кто-то ему подсказал), что не стоит на ровном месте сажать новое дерево. Когда оно еще вырастет? Проще взять и пересадить старое. Из советской разведки сделать российскую. Ельцин чувствовал себя полным хозяином положения!
— Горбачев не возмутился, когда Ельцин властно перечеркнул все его креатуры, напролом, не деликатничая, расставил своих людей?
— Нет, тут же отступил. Не осталось ни одной фигуры из вновь назначенных Горбачевым. Меж тем речь шла о руководстве СССР, а не России. Но Михаил Сергеевич, надломленный путчем и болезненно осознавший в Москве, что из-под ног уходит почва, не вступал с Ельциным в конфронтацию. Тот полностью перебил его, все сделал по-своему, по-ельцински. Тяжело было наблюдать, как Горбачев практически смирился, ничего не предпринимает для того, чтобы сохраниться в качестве реального президента.
— А знаете, что ответил Михаил Сергеевич, когда мы его однажды спросили: неужели шальная мысль бороться до конца — хотя бы ради Раисы Максимовны, дочери, внучек — не приходила в голову? Он сказал: «Я считаю, что боролся до конца. Но! Против лома нет приема.
Уже ничего нельзя было сделать. После августа моя репутация оказалась сильно подпорчена. Люди стали рассуждать: „У Горбачева не ладится, а Ельцин — то, что надо, наш мужик". Мне удалось осенью многое исправить. Бурбулис даже написал конфиденциальный меморандум (Руцкой, правда, мне тут же передал копию), где утверждалось, что Горбачев хитроумными ходами отобрал пятьдесят процентов победы августовской революции. Это Ельцина завело. А в заведенном состоянии он черт-те на что способен».