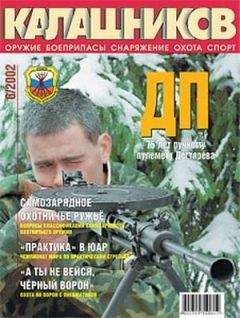История рентгенолога. Смотрю насквозь: диагностика в медицине и в жизни - Морозов Сергей
Дальнейшие полвека и даже дольше был фактически только один рентгеновский метод. Да и сегодня рентгеновское исследование остается базовым. В любой поликлинике, больнице есть рентгеновский аппарат, и зачастую не один. Появились даже мобильные аппараты, которые легко умещаются в специальном маленьком чемоданчике. Таким образом, рентгеновское исследование сегодня возможно провести практически в любых условиях.
Итак, в начале ХХ века рентгеновскими аппаратами была оборудована каждая больница. В одной из них, неподалеку от Берлина в военном городке Эбервельде, молодой хирург, только-только начавший практику, Вернер Форсман (1904–1979) решил посягнуть на святое… И его дерзкий эксперимент стоил ему карьеры. В конце жизни он писал: «Это было очень больно. Мне казалось, что я посадил яблоневый сад, а какие-то чужие люди забрали весь урожай и стоят у забора, насмехаясь надо мной».[2]
В сущности, юный Вернер провел первый опыт ангиографии, которая сегодня стала рутинным инструментом для спасения жизни людей при инфарктах и инсультах. Невероятно, но еще сто лет назад врачебное сообщество готово было предать анафеме каждого, кто осмеливался подумать о вмешательстве на сердце. Этот орган должен был оставаться неприкосновенным. А какой-то 25-летний мальчишка позволил себе такое! Непонятно, как вообще остался жив…
Что же он натворил? Он самостоятельно ввел себе через локтевую вену самую тонкую и длинную мочеточниковую трубку (катетер), которую только смог найти в больнице, чтобы попытаться провести ее по вене до самого сердца. После этого вместе с операционной сестрой, которая была посвящена в его план и сама была готова стать «подопытным кроликом», он спустился в подвал в рентген-лабораторию больницы и сделал рентгеновский снимок. Снимок показал, что трубка была очень близко, но еще не добралась до сердца. Небольшим усилием он продвинул ее еще дальше, и она вошла в правое предсердие, что и было запечатлено на снимке. Когда на следующий день он показал его своему руководителю, тот отправил Вернера на консультацию к психиатру. Медицинское сообщество было возмущено дерзостью молодого хирурга и не сомневалось в опасности и недопустимости подобных манипуляций. Дальнейшие его опыты на животных, доказывавшие безопасность метода, не впечатляли светил того времени. К середине 30-х Форсман забросил свои эксперименты и решил не заниматься больше кардиологией.
После войны он смог устроиться урологом в сельской больнице в богом забытом регионе Германии. А 20 лет спустя, в 1956 году, ему позвонили и сообщили о присуждении Нобелевской премии, после чего сельский уролог немедленно был приглашен руководить Институтом кардиологии Германии. Но этого лестного предложения он уже не принял.
За несколько лет до этого (в 1952 году) Нобелевская премия по физике была вручена за открытие ядерного магнитного резонанса. Феликс Блох (1905–1983) и Эдвард Парселл (1912–1997) обнаружили, что ядра вещества, помещенные в магнитное поле, могут воспринимать радиочастоту и получать таким образом дополнительную энергию. То есть, ядра резонируют, отсюда и название: ядерный резонанс. К радиации, с которой многие связывают слово «ядерный», это не имеет отношения, никаких радиационных воздействий явление магнитного резонанса не предполагает.
Справедливости ради надо отметить, что явление электронного магнитного (парамагнитного) резонанса было открыто и в СССР в 40-е годы Евгением Константиновичем Завойским (1907–1976), даже еще до открытия Блоха и Парселла. Но, разумеется, оно не стало достоянием мировой общественности. Как шутят некоторые авторы, в 40-е годы инженеры физики строили либо бомбы, либо радары.
По названию нетрудно догадаться: явление магнитного резонанса стало основой для изобретения магнитно-резонансной томографии. Но понадобилась еще пара десятилетий. Тогда это удостоенное Нобелевской премии открытие использовалось в основном в химии для изучения молекулярных структур и легло в основу метода спектроскопии, когда в пробирке с помощью магнитного резонанса можно определить или предсказать, что там за вещество.
Никому не приходило в голову искать ему какое-то иное применение, пока в 1971 году в пригороде Питтсбурга (Пенсильвания, США) инженер-химик Пол Лотербур (1929–2007) в момент озарения не нацарапал на салфетке изображение «предка» аппарата, который сегодня мы называем магнитно-резонансным томографом. Пол Лотербур говорил о зевгматографии (от греческого «зевгма», упряжь, слияние), подразумевая сочетание двух видов физического воздействия: магнитного поля и радиочастоты, которые вступают в резонанс. Поначалу речь шла о двухмерных изображениях. И первым живым существом, которое прошло «зевгматограмму» Пола Латербура, был найденный его дочерью на пляже моллюск.[3] Но самым важным достижением на тот момент стал снимок двух пробирок с водой, но не простой, а тяжелой. Они были помещены в стакан с обычной водой, и на снимках была видна разница.
С точки зрения Пола, это означало прорыв и открывало небывалые возможности для исследования человеческого организма, который состоит преимущественно из жидкости. Пол Лотербур, к тому моменту хорошо известный ученый химик, подготовил статью и подал ее в журнал Nature. Но редактору не понравились «мутные изображения» (это были первые томограммы, или в терминологии Лотербура зевгматограммы), да и сама идея показалась недостаточно значимой. Тогда раздосадованный ученый произнес известную фразу: «Всю историю науки за последние 50 лет можно написать по статьям, непринятым к публикации в Science или Nature!». Он требовал пересмотреть это решение, и два года спустя исследование все же было опубликовано.
В 2003 году Полу Латербуру за это изобретение была вручена Нобелевская премия. Он разделил ее с британским ученым Питером Мансфилдом, который сумел многократно ускорить получение изображения. Изначально томограмма могла занимать часы, в зависимости от размера объекта.
Еще в 70-е Пол Лотербур хотел запатентовать свое изобретение, но университет Нью-Йорка, где он проводил основные работы, не счел нужным это делать, не ожидая никакой коммерческой выгоды от изобретения. «Не самое дальновидное решение», – сдержанно отозвался об этом профессор Лотербур, получая Нобелевскую премию.
Но интересно, что другой человек, Реймонд Дамадиан, тоже исследователь, который примерно в те же годы проводил похожие эксперименты, создал реально действующий, коммерчески доступный аппарат. Открыл производство МРТ и получил все финансовые дивиденды. Он запатентовал технологию в отличие от Пола Лотербура, но не стал лауреатом Нобелевской премии и был очень уязвлен этим. Он писал открытые письма в крупнейшие мировые журналы и газеты, что Нобелевская премия вручена за его изобретение другим людям. Но решение Нобелевского комитета осталось неизменным.
МРТ позволило увидеть совершенно другое. Моя кандидатская диссертация была посвящена изучению активности коры головного мозга с помощью функциональной МРТ (собственно, ее изобрел сэр Питер Мэнсфилд). С помощью МРТ и КТ (о ней речь пойдет дальше) мы быстро и четко видим структуру. С помощью фМРТ мы можем увидеть функцию: как кровоснабжается мозг, какие отделы коры активизируются, когда человек двигает пальцами или видит изображение, или чувствует запах. С помощью МРТ можно уйти на уровень физиологии, химии, сделать неинвазивную биопсию, посмотреть химический состав ткани мозга – это захватывающие, удивительные возможности.
Ставшая сегодня всем известной аббревиатура КТ (еще пару лет назад журналисты умудрялись расшифровывать ее как «котэ», очевидно думая о котиках) – это огромный шаг в развитии рентгенологии и во многих случаях замена рентгенодиагностики. Первый компьютерный томограф был создан почти одновременно с первым магнитно-резонансным.
Принцип действия компьютерного томографа – рентгеновское излучение (в отличие от магнитно-резонансного). Но почему томография? Что это слово означает? «Томи» означает разделение, разрезание. И первые томографии (разумеется, не компьютерные) проводил… Леонардо де Винчи, когда изображал структуру тела в формате послойной анатомии. Любой врач, проходивший курс анатомии в медицинском институте, знает, насколько важно увидеть именно изображение срезов человека, его органов, чтобы детально увидеть нарушения. Через триста с лишним лет после Леонардо первым в России этот подход применил Николай Иванович Пирогов (1810–1881), создав ледяную анатомию. Пожалуй, ее можно назвать прообразом современной томографии.