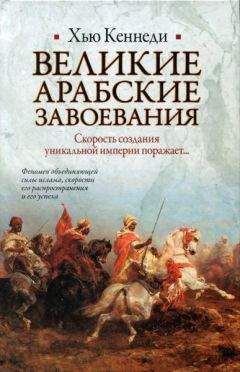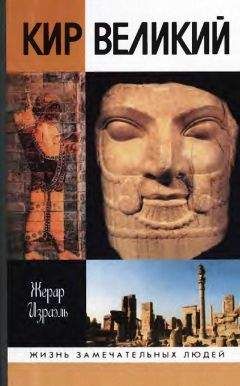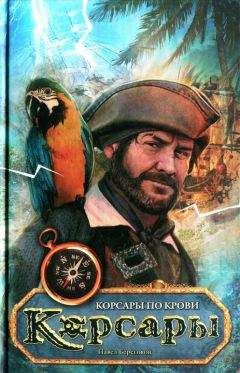Е. Ковалевская - Реквием

Обзор книги Е. Ковалевская - Реквием
Е. А. Ковалевская. Реквием
РЕКВИЕМ
Публикация и вступительная заметка Ольги Михайловой
Светлой памяти моих родителей
"Военные" письма лежали в ящике старого письменного стола. Я знала об их существовании, но стеснялась попросить у мамы разрешения прочесть их, боясь, что там будет что-то слишком интимное, касающееся лишь их двоих. Но в письмах, как и в чувствах, оба они были удивительно чисты и целомудренны. Я прочла их, когда не стало мамы, не стало "нашего дома" — комнаты с широким, во всю стену окном. Теперь оно чужое, модные белые жалюзи закрывают его. А совсем недавно это окно было частью нашей жизни. Стоило отойти на середину комнаты, и начинало казаться, что находишься на борту корабля. За окном текла Нева, такая живая. Последние годы мама с трудом могла читать и часами сидела в качалке у окна, следила за удивительными красками заката, постоянно меняющейся рекой, слушала музыку. Музыка, как и красота, доставляла ей самое большое наслаждение. Недаром, оказавшись в Ленинграде восемнадцатилетней девочкой, она тратила последние гроши, предназначенные на еду и одежду, на билеты в Филармонию. Когда-то мечтала стать пианисткой, но, поняв, что великого таланта нет, сама запретила себе прикасаться к инструменту.
В письмах вновь зазвучали молодые голоса, ожили надежды на будущую мирную послевоенную жизнь. Как странно (и больно) читать эти строки, погружаясь в то время, заново переживая то, что было, и уже зная, что стало потом.
Они родились в одном и том же, 1908 году, в Фергане, учились в одном классе, вместе закончили школу, очень нравились друг другу. Но встретились снова лишь через восемь лет. К этому времени она окончила педагогический институт, водила экскурсии по Эрмитажу, а он был уже инженером-строителем. Случайно узнав ее адрес, он на три дня примчался в Ленинград, чтобы увидеть ее. Они встретились и решили соединить свои судьбы. Тот день — 7 ноября 1932 года — они торжественно назвали "началом нашей эры". Потом появилась я.
В 1939-м началась война с белофиннами. Папа был призван на военную службу, попал в батальон связи, был все время на передовой. Мама писала ему: "Мечтаю о твоем возвращении как об огромном, несбыточном счастье, но, несмотря на это, хочу сказать тебе: живым не сдавайся в плен". В марте 1940-го был подписан мирный договор с Финляндией, а он все не возвращался домой. "Недавно я дежурила в лазарете у очень тяжелых раненых. Картины эти преследуют меня. И теперь я до конца не могу поверить, что ты уже в безопасности, и не поверю, пока не увижу тебя. Будь осторожнее с этими проклятыми минами. (…) У нас вся квартира собирается устраивать тебе торжественную встречу. Я горжусь".
Он приехал, как всегда, неожиданно, летней белой ночью, перед рассветом стройный, молодой, с темным от загара лицом… А уже через год, в 1941-м, сразу после объявления новой войны ушел добровольцем в Народное ополчение. Предполагали, что через несколько месяцев все закончится. Мама не хотела никуда уезжать из Ленинграда, дежурила на крыше во время воздушных тревог, но он сумел уговорить ее уехать.
Помню товарный поезд, увозивший нас в эвакуацию, — один из последних эшелонов, уходивших из Ленинграда с семьями военнослужащих. Папа сутки был на дежурстве, прибежал к самому отправлению. Они не смогли даже попрощаться как следует. Поезд уже двинулся, шел, а папа все держал меня на руках и бежал все быстрее, быстрее рядом с открытой дверью товарного вагона, потом подал меня маме, а я громко и безутешно плакала. Почему-то я знала, что не увижу его больше… Ехали мы больше месяца, говорили, что нас направляют в Магнитогорск. Как бы сложилась наша жизнь там — неизвестно, но, на наше счастье, эшелон проходил через Башкирию, где в маленьком городке Белебее жил дедушка, папин отец. Там мы и сошли с поезда.
Устроиться на работу по специальности маме не удалось. Взяли грузчицей и чернорабочей на завод. Весной 1943-го мы перебрались в Чкалов (ныне Оренбург), где находились бабушка и мамина сестра с маленькой дочкой, эвакуированные туда с ленинградским авиационным заводом. Там маме нашлась работа в школе — учительницей русского языка и литературы. Кроме уроков она вела драмкружок, для которого сама делала инсценировки, проводила литературные вечера, устраивала концерты в подшефном госпитале.
Папа провоевал десять месяцев. Каждые два-три дня он писал письма маме, мне, родным, друзьям. Иногда на бумаге остались пятна от чадящей коптилки, иногда — сплошные черные вымарки цензуры. Из маминых писем к нему сохранились только те, что были возвращены с наклейкой "Адресат выбыл". И еще отдельные листки, исписанные ее свободным размашистым почерком, — ее письма-дневники, обращенные к тому, кого уже нет.
О. Михайлова
РЕКВИЕМ
(10 июня 1942, Белебей)
Мой дорогой, любимый мой!
Сколько же дней прошло с тех пор, как я получила эту страшную весть? Всего три недели, но жизнь моя остановилась в тот час. Или в долгие годы превратились дни. Я не знаю. Может быть, ты никогда не прочтешь этих строк, но я не могу не писать тебе. Я верю, далекий мой, что ты жив. Я не могу думать иначе. Каждую минуту, каждый день я жду тебя. Каждую ночь я вижу тебя во сне. Я часто просыпаюсь. Мне все кажется, что стучат. Что кто-то идет. Я слышу чьи-то шаги. Мне кажется, что я вижу тебя сквозь закрытые ставни. Вот ты подходишь к дому. Тихо стучишь в ставень кончиками пальцев. Помнишь, ты всегда отстукивал какой-нибудь мотив? Ты не решаешься сразу войти: ты боишься испугать нас. Сердце во мне цепенеет. Я не могу пошевельнуться, не имею сил встать и спросить, кто там. И ты уходишь. Шаги замирают. Я медленно, медленно прихожу в себя, понимаю, что это бред. (…) Почему ночь не может длиться вечно! День неумолим. Он настает, и я должна расстаться с тобой. За стеной плачут дети. Со стонами встают взрослые, начинают ссориться. Все торопятся. Как хорошо, что я тоже должна торопиться. Хорошо, что работа так непосильно тяжела для меня. Если бы ты знал, как я устаю! Утром не могу разогнуть пальцы. Болит поясница. Я наскоро ем и ухожу. Я работаю на элеваторе. Мы там ссыпаем зерно в мешки (это называется "кантарить") и грузим их в вагоны. День делится на две половины. Сначала мы все ждем, когда наступит обеденный перерыв. Потом считаем часы до конца. Особенно тяжело бывает в те дни, когда идет погрузка гороха. Мы стоим тогда в облаках пыли. Почти не видим друг друга. И только по равномерному трескучему звуку сыплющегося гороха догадываешься, что рядом стоит другая кантарщица. Мы задыхаемся от пыли. Часто чихаем. Я уже чихаю кровью.