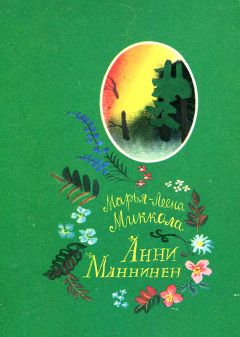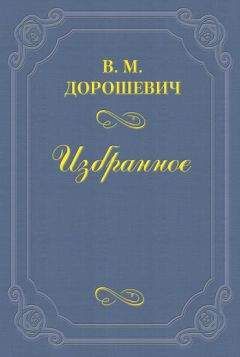Константин Арбенин - Иван, Кощеев сын
— Факт — отчим, — кивает пьяный инквизитор. — Только закусить этот факт нечем!
27. Колокольный лагерь
Горшеня ещё долгое время не мог в этом мире ориентиры приобрести — глядел вроде как сквозь окружающих, Ивана не признавал, сморщивал лоб, бубнил что-то тарабарское и только одно слово внятно произносил: Аннушка, Анюта. Потом жизнь в нём прежние ростки дала — чувства к нему вернулись. Знакомо это Горшене — не однажды приходилось ему возвращаться из разных пограничных состояний, и каждый раз мир чудным и новым казался, каким-то по-игрушечному красивым. Будто он, Горшеня, снова маленький человечек Егорка, а вокруг опять всё большое и непонятное.
Иван вкруг него бегает, водой прыскает, по щекам стучит, а Горшеня сидит, как прислонили, и только носом картофельным подёргивает да глазами вокруг себя поводит. Рот с языком в нём еще не заработали. Оглядывает Горшеня местность, в которую его занесло, и заново диву даётся. Немало он на своем веку повидал, даже на тот свет скомандировался, а такого чудного места не видел!
А что это за место и как оно обустроилось — о том Семионы Ивану вслух рассказали, пока он с ожившим другом возился, а Горшеня тоже, стало быть, слышал.
Называлось место то Колокольным лагерем. Здесь, в чаще лесной, от большой дороги сбоку, несколько лет кряду сваливала королевская служба снятые с церквей колокола. Привозили их на конных поездах, волоком притаскивали, катаньем прикатывали, а чтобы лишнего звону не было, языки предварительно вынимали, и сбрасывали в соседний овраг. Вот и собрались на опушке обеззвученные красавцы всех размеров и видов: и огромные колокола — с хижину величиною, и средние колокольцы — с собачью конурку, и совсем маленькие колокольчики, и целая куча простых бубенцов, снятых с упряжей и шутовских колпаков (должность шута при короле Фомиане упразднена была). Ну а когда последний в стране колокольчик был изъят из употребления и перемещён в лес, для королевской службы тропа к колокольному кладбищу заросла за ненадобностью. Зато нашли ту тропу беглые — семеро братьев Семионов. Нашли и облюбовали. Поставили сообща колокола как тем подобает — петлёю вверх, основанием оземь, — вырыли под тремя из них проходцы и стали жить в колоколах, будто в землянках. Подумывали уже и о том, как бы всех беглых в этом лесном лагере собрать да в колокольных землянках разместить, — места бы на всех хватило. В больших колоколах могли б целые семьи жить, а которые поменьше — в тех бы вдовы да холостяки разместились. В самом большом колоколе — место общего сбора. Даже от холода спасаться нашли способ Семионы: придумали обкладывать колокола дровишками по периметру, поджигали их и нагревали чудо-жилища до нужной температуры. Так и перезимовать запросто можно. Языки же колокольные, королевской властью выдранные чуть ли не с мясом, достали они из оврага и сложили аккуратно в штабеля — до поры до времени лежать им молчком.
С приходом беглых ожило кладбище, загудело глухонемым гулом. Да и какое оно теперь кладбище, коли на нём мёртвых нет, а наоборот, с каждым днём живых прибавляется! Не кладбище — почти село! Ну не село, так поселение — колокольный лагерь!
И вот уже ковёр пристёгнут большой трофейной булавкой к бечёвке, бечёвка привязана к пню, посреди лагеря костер разведён, а возле него крутятся в делах пятеро братьев Семионов (двое же остальных выставлены на замаскированные охранные посты). Сестра их Надежда Семионовна уже за готовку обеда принялась, что-то в котелке замасливает; Иван с Горшеней нянчится, тут же блоха Сазоновна сидит — угли раздувает. Семионы Горшеню к огню поближе придвинули, Ивана успокаивают:
— Да не боись, братец, коли уж жив твой сотоварищ, то, значит, не умер. Вон у него уже и живчики по щекам бегают и глаз мерцает — сейчас придёт в себя.
— Везучие вы оба-два!
Иван на то только головой качает, Горшенину грудь ухом прощупывает. Первая его бесшабашная радость утихать стала, новые сомнения одолели — а вдруг как не очухается товарищ, не выберется из этой вот очередной своей оскомины или как там её?
Елисей Семионов, из всех семерых братьев самый лихой и рисковый, достал из ларя плитку костяного клея, слегка над костром её растопил да и прямо в ноздрю бесчувственному Горшене сунул. Тот в полмига ожил — вскочил как ужаленный, чуть в костёр не ввалился, едва подхватили его и обратно к пеньку пристроили.
— Фу ты, — вытирает пот со лба Иван, — жив, стало быть.
А Горшеня смотрит на костёр, скулами шевелит, как рыба жабрами, по всему его телу трясучка пошла, будто тысяча маленьких вырезанных из дерева медведей обстукивают его изнутри своими молоточками. Семионы спасённому под спину соломенную подстилку подложили, укрыли ноги рогожкой, тёплых углей к нему поближе подвинули.
Надежда возле костра уселась, примостила на коленях вязание — шустро так у неё получается, только спицы сверкают.
— Я, — говорит, — сейчас вашему другу, Иван Кощеевич, тёплую жилетку свяжу, он в ней быстро от этого морока отойдёт. У меня рука лёгкая.
— Это точно, — подтверждает Еремей Семионов, младшенький. — У Надёги нашей руки-то золотые!
— Вот ведь какой коленкор получается! — говорит Елисей-рисковый — летели за усопшим, а привезли живого!
— Хотели двоих спасти — двоих и спасли, — молвит Сильвестр Семионов — самый средний из братьев и оттого самый рассудительный.
— Как это двоих! — поправляет Еремей. — Вот же и третий, дополнительный!
И точно — о секретаре-то бывшем чуть не забыли все! Он, бедолага, как приземлились, под ковёр от страха забрался да так под ним и лежит, подрагивает. Елисей ковёр приподнял.
— Вот те на! — говорит. — С этим-то что делать будем?
— А чего с ним делать! — говорит Евсей Семионов, старший брат. — Пусть сам что хочет, то и делает. Хочет — пускай к своим возвращается. А хочет — пусть к костру садится да кашу нашу попробует. Мы не регулярная армия — языков не берём и на беззащитных не отыгрываемся. В лесу все пеньки вровень.
— Погоди, Евсей, — оспаривает Аким Семионов, старшого брата погодок. — Ежели мы этого напугай-птицу отпустим, он же лагерь наш с потрохами сдаст никвизиторам!
— Да нешто! — машет рукой старшой. — Он и дороги-то не запомнит, он же существо кабинетное — стул со ртом!
Тут Иван за своего соучастника по казни встрял. Вытянул его за пятки из-под ковра, поднял за подмышки и ближе к костру усадил, как гуттаперчевого. Вот и сидят теперь возле костра два сидня — Горшеня-мужик да кабинетное существо без имени.
Сильвестр-средний кашей миску наполнил, к самому канцелярскому носу поднёс.
— Как звать-то тебя, чудо городское? — спрашивает.
Секретарь в миску вцепился, смотрит на кашу выпученными глазами — никогда такой еды не видывал. Вопрос тем не менее понял, ответить пытается.
— Термиткины мы… Триганон Термидонтович…
— Значит, Трифоном будешь, — кивает Евсей-старшой. — Мы языки свои об твоих термидонтов ломать не собираемся. Да и тебя, тонконогого, к нормальному человечьему языку развернём, к русскому разговорному. Вон Ерёма тебя поднатаскает, он у нас грамоту изучал тайком от ваших урядников. Понял, Трифон?
Существо головой закивал — то ли перспектива ему понравилась, то ли имя свое первородное вспомнил. В это время Горшеня зашевелился, руками заводил, как лунатик. Елисей тотчас кружку ему в ладонь вставил, помог до рта донести. Отхлебнул Горшеня елового самогона, сразу душа его к телу дорогу вспомнила. Брови дёрнулись, ноздри затрепыхались, борода командно вздыбилась. Иван сразу вторую налил, а Горшеня кружку отводит, просит безголосо:
— Курить бы…
Ему тут же самокрутку смастрячили, в зубы вложили. Горшеня затянулся полраза, да и достаточно — весь в кашель перешёл. Покраснел, локти в пень упёр. Семионы его за плечи треплют, по-дружески приветствуют, радуются, а пуще всех, конечно радуется Иван. А Горшеня пока только созерцает; всё ему пока как сквозь сито видится, и мысли у него враскаряку и чувства вразброд. Но вот уже и говорить стал, Ивана и Надежду Семионовну по именам выделил:
— Иван, — говорит, — дружище… Надежда — знаю… Зябко мне что-то, братцы…
Семионы два стрельцовских кафтана на него накинули, а его всё потряхивает — какая-то послесмертная лихоманка мужика одолевает. Семионы ему ещё кружку налили; Горшеня трястись перестал — а всё равно ёжится да зубами постукивает.
Надя вязание своё над коленями приподняла и говорит:
— Сейчас, дядя Горшеня, я вороток довяжу — вы и согреетесь.
Горшеня дрожать перестал и на Надеждино вязание смотрит с затайкой.
— Это мне, что ли? — спрашивает.
— Вам, дядя Горшеня, — отвечает Надя, — чтобы вы сил набирались. Красный цвет — он здоровье держит, силу приманывает.
Подошла к Горшене, наклонилась и ворот к его шее примерила.