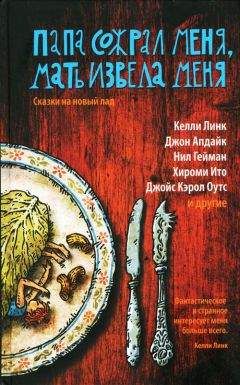Питер Леренджис - Наблюдатели
Человек повернул голову, и я увидел его лицо перед тем, как нырнуть еще глубже в нишу.
— О боже! — вырвалось у меня.
— Это ведь… — прошептала Хитер.
Я кивнул:
— Андерс.
10
Но почему сейчас?
А почему бы нет?
— Что он здесь делает? — прошипела Хитер.
— Нашла кого спрашивать, — прошипел я в ответ.
— Он нас видел?
— Шшшшш!
Андерс плелся, цепляясь нога за ногу, шаркая башмаками по линолеуму. Вот он подошел почти вплотную к нам.
Мы стояли не дыша. Хитер совсем вжалась в стену.
Андерс был уже совсем рядом. На расстоянии вытянутой руки. Я слышал, как он что-то бормотал про себя. Что-то неразборчивое, как старческое ворчание.
А потом… Топ… топ… топ.
Он затопал по ступенькам вниз.
Мне казалось, у меня сейчас разорвутся легкие. Я со свистом выпустил воздух из груди.
Ни Хитер, ни я не двинулись с места, пока дверь в парадную не закрылась с грохотом.
— Он взломщик! — воскликнула Хитер.
Я покачал головой:
— Какой взломщик средь бела дня? У него, наверно, есть ключ. Может, он приятель этого Майлса Ракмана.
— Приятель Майлса Ракмана, приятель твоего папы… Здесь есть какая-то связь, как думаешь?
— Ой, не заводись, Хитер, — замахал я руками, выскакивая из ниши. — Только не заводись.
— Но ты же не можешь отрицать, что все это как-то странно.
Я стал спускаться по лестнице. Мне только этих головоломных теорий Хитер не хватало. Не собираюсь я выслушивать всю эту ахинею.
Но что правда, то правда: и отрицать это я не мог. Что-то здесь было нечисто.
* * *— Я здесь! — закричал я, входя к себе домой.
Дверь за мной захлопнулась. Ранец полетел в гостиную.
Я был весь поглощен мыслями об Андерсе и потому не обратил внимания на перемены в прихожей. Стены были голые. Все фотографии исчезли, оставив темные прямоугольники на выцветших обоях.
— Где ты был? — обрушилась на меня с упреками мама. — Я ведь, кажется, сказала тебе…
— Хитер позвонила. Ей… надо было помочь кое-что сделать. Ты же ее знаешь. Ладно. А что стряслось с фотографиями?
Мама неохотно кивнула в сторону своей комнаты. Весь гнев ее испарился, когда мы вошли туда. Фотографии грудой валялись на кровати вместе с записными книжками, фотоальбомами и всякими бумагами. Я обернулся к маме, и она грустно улыбнулась. Я понял, что она плакала.
В углу ее комнаты стоял папин письменный стол. Все ящики были вытащены и пусты. Единственное, что осталось, — это его старый глобус.
— Что ты делаешь с папиными вещами? — спросил я.
— Я решила, что пора навести порядок, — откликнулась мама. — Освежить дом. Покрасить стены. Очистить папин стол. Ты можешь им пользоваться… пока его нет.
Голос мамы задрожал, и она стала с деловитым видом перебирать бумаги.
Я сел на край заваленной постели. У меня было какое-то странное чувство, будто папа здесь, в комнате, его дух витал над кроватью. Я открыл наобум альбом, помеченный моим годом рождения. На первой странице было фото папы, склонившегося над белой колыбелькой. Лохматый, с подстриженной бородкой, глаза припухшие, будто он не выспался, но его улыбкой можно было осветить целый город.
Мама заглянула мне через плечо:
— Тебе две недели. Папа просыпался от каждого твоего писка. Он так заботился о тебе.
На глаза навернулись слезы. Отчасти из-за фото, но не только из-за этого. Мама сказала: «заботился». В прошедшем времени.
Судя по всему, она, наконец, решилась взглянуть правде в глаза и убрать все, что напоминало о нем.
Я вытащил свидетельство об окончании третьего класса. Программку спектакля в летнем лагере. Значок, который я купил папе на ярмарке. На нем слова: «Мой сынишка безумно любит меня!»
Мама достала потрепанную записную книжку на спирали.
— Ты не знал, что папа вел дневники, как и ты?
— Нет, — ответил я.
Но это меня не удивило. Папа любил писать. Одно время он даже вел колонку в бюллетене службы охраны общественного порядка Франклин-сити.
— Он перестал, когда ты был во втором классе или около того. Слишком много дел навалилось. Вот послушай: «Забирал сегодня Д. из подготовительного класса. Двое его одноклассников бросились к своим родителям с криками: «Я так тебя люблю!» — раскрыв руки, словно обнимая их. Д. заплакал и говорит: «У меня не такие большие ручки, папочка, чтобы обнять тебя, потому что я люблю тебя…»
— «…от пальчиков на ногах до вершины мира», — подхватил я. — Я помню.
— Уф! — Голос у мамы дрогнул, и она продолжила: — «Вот что я называю счастьем». — Она замолчала и положила записную книжку на кровать. — Прости меня, Дэвид.
Она торопливо вышла. Я слышал, как она сморкалась в ванной.
Я смахнул слезу и тут заметил шесть других дневников, лежавших на кровати. На каждой тетрадке рукой папы были написаны даты. Я посмотрел, нет ли совсем раннего, когда он был мальчишкой. Скажем, моего возраста. Но самый ранний был написан за год до того, как папа и мама поженились.
Меня так и подмывало открыть один из них, но я сдерживался. Было что-то неприличное в желании прочитать папин дневник. Словно ты без спроса вторгаешься в чужую жизнь. Честно говоря, меня вся эта ситуация повергла в уныние. Я встал и отправился к себе. Проходя мимо папиного стола, я крутанул глобус. Он закачался, упал, продолжая вертеться. Я успел подхватить его, пока он не скатился со стола.
Когда я был маленький, папа не позволял мне играть с этим глобусом. Теперь-то я понял почему. Что за дурацкий дизайн!
Я поднял его и поставил на стол. При этом внутри что-то зашуршало. Тут я впервые заметил, что по обе стороны экватора есть чуть заметные выступы и шарнир на металлической опоре, соединяющей ось глобуса с основанием.
Я оглянулся на дверь ванной. Она была закрыта, и слышался шум воды. Положив пальцы на выступы, я потянул вверх. Глобус раскрылся на две половинки.
Внутри был еще один дневник.
Я вытащил его и взглянул на обложку.
На ней стояла только одна дата. Время начала дневника около двух лет тому назад. После этой даты стояло тире, но ничего больше. Как если бы папа не закончил его.
Я открыл последнюю страницу. На ней сверху было накарябано число. Это было за день до исчезновения папы. Внизу была запись его рукой.
Я сел и стал читать.
11
Он испытывает боль.
Но здесь, боюсь, мы ничем помочь не можем.
«С еле трудом держу перо. Ум за ум за ходит. Т. думает, я сошел с брендил. Не можу сделать ее понять».
Т. — это мама. Тейлор.
Меня вдруг охватили ужасные воспоминания. Мама и папа ругаются на кухне. Он с трудом выговаривает слова, неправильно произнося их. Она рыдает. Громко. Так громко, что я зарываюсь в подушку, чтобы не слышать.
— Ты пьян! — кричит мама.
Но он не пьян. Это началась его болезнь или что это было.
И все равно папина запись не имела уже никакого смысла. Когда он это писал, она уже поняла. Она знала, что он болен.
«Не можу мысл масл соображ чего. Больше не. Вынести. Надо идтить домой. Не можется. Сказал Т. Не готова слышать чего».
Домой?
Это было последнее слово, которое отец сказал маме. Она спросила: «Куда ты идешь в такое время?» А он ответил: «Домой».
Но что это значило? Он ведь был дома.
Если только…
Другой дом. Другая жизнь. Другая семья в другом месте.
Невозможно. Смеху подобно.
Но память возвращала меня в былые годы. К этим вечным папиным отъездам. Якобы деловым. «Помогать охранникам», — говорил он всегда, уезжая на несколько дней.
Неужели он все это время лгал?
Лгал, чтобы навещать своих? Я слыхал о таком. Но мой папа?
«Сказал Т.» — написано у него.
Значит, мама об этом знала? Маме было все известно о его тайной жизни. И она все скрывала? Не могу поверить.
Я перелистал несколько страниц назад. Должно же быть какое-то объяснение.
Звук открываемой двери застал меня врасплох. Я захлопнул глобус. Не теряя времени, сунул дневник в задний карман джинсов и прикрыл тенниской.
— Прости, Дэвид. — Мама вошла в комнату, потирая глаза. — Когда я читаю такие строки, я вся не своя. Иногда из головы вылетает, какой славный человек был твой папа.
— Правда, был?
Мама бросила на меня подозрительный взгляд.
— Ну конечно, Дэвид…
— Я вот подумал… Когда вы с папой… ругались, он, наверно, говорил ужасные вещи, а?
— Но он был очень болен, — с глубоким вздохом произнесла мама. — Ты должен понять: он не виноват.
— Он говорил что-то насчет того, что надо идти… домой?
Мама села на кровать. Лицо у нее стало грустное.