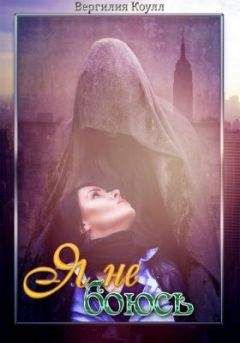Радий Погодин - Я догоню вас на небесах
И вдруг я увидел хлебы.
Это была, несомненно, картина Ильи Машкова.
Как издевались хлебы над всей мудростью мира. И хлеб был аморален, как аморален был голод. Картину принес по меньшей мере черт. Хлебы горели румянцем, светились сытостью, довольством и лукавством. И вот в чем дело: голодные люди с хрусталями, мехом, серебром не видели в этой картине издевательства, но видели надежду. Они подходили к ней погреться. Хлебы на картине были для них предощущением победы. И, переосмысленные чувством ленинградцев, нагло-издевательские караваи и калачи вдруг становились на блокадном рынке нравственными, как народное знамя.
Меня кто-то тронул за рукав. Я оглянулся. Из трех платков (грубовязанного, цветастой шали и белого ажурного оренбургского) на меня глядела старушенция, продавшая мне хрустальное яйцо.
- Я тебя узнала, - сказала она. - Оголодал. А этот художник, он сумасшедший. Он картин не продает - у него купить хотели. Он хулиганит назло врагам. Рисует под Машкова и Кончаловского. Говорит, чтобы рынок сделался похожим на рынок. Это же не комиссионный магазин, верно? Не барахолка. Это же Сытный рынок! - Она обвела сухонькой ручкой малоподвижных "купцов" с потерявшим цену драгоценным товаром.
Художник был в белых брюках, в башлыке и бороде, неопрятный и тощий, как малярная стремянка, но злой и презрительный. Он поставил рядом с псевдо-Машковым псевдо-Кончаловского "Мясо и овощи".
- Налетай, - сказал он. - Вари борщ боярский. Щи кислые по-петровелицки. Окорока! - И закашлялся.
- Я сюда как в театр хожу, - сказала старуха. - Когда он выходит, мне видно... Грустный театр масок. Хотя почему грустный! Именно во всем этом есть продолжение жизни народа, причем самое надежное.
Я не понимал старушенцию. Но насчет масок, мне показалось, она была права.
Маски были закутаны в платки, в шали, даже в полотенца. Но там, за их безобразием, таились и нежность, и страх, и геройство. Наверно, именно тогда я понял, что блокада страшна своей обезличивающей безнадежностью: и добряк, и скупой одинаково не могут проявиться, потому что у них одинаково нет ничего для выявления своих основ. Блокада - уравниловка.
Люди, принесшие на рынок серебро, фарфор и даже золото, чтобы купить съестное и, может быть, спасти ребенка, все чаще подходили к картинным хлебам - погреться. Хлебы не грели, наверно, только его, злого художника в белых штанах, и, наверно, его душа скулила внутри него: "Не хлебом единым..." - "Тогда чем же?" - спрашивал он. И душа отвечала: "Небом..."
Я пошел к выходу, шаркая валенками. Старушенция семенила рядом.
- Не опасайся, - говорила она. - Хрустальное яйцо убережет тебя. Ты его кому подарил?
- Маленьким девочкам. Двум сестричкам.
- Девочкам - это хорошо, - сказала старуха. - Девочки людей народят...
Я ушел, непричастный к старухиной мысли, показавшейся мне бредом анемичного мозга - я не мог включить Алю и Гулю в ее контекст.
А за моей спиной заиндевелые духи торговали, едва удерживали на весу дорогое добро, собственно ничего не значащее для человека, но значащее так много для человечества. Пытаясь продать это добро, люди, может быть, подсознательно пытались спасти его, сохранить пускай в невежественных, но живых руках, для передачи в будущие годы. Но это нельзя утверждать бесспорно.
После похода на Сытный рынок я заболел. У меня случился жар. Я полагал, что температура моего тела могла только падать.
Чтобы пойти в больницу имени Ленина, нашу районную, я вымылся в тазу. Смыл такую ценную сейчас для некоторых грязь войны. Тогда я еще раз увидел свою некогда спортивную фигуру.
Зеркало у нас было большое, в золоченой раме, но мать Марата Дянкина почему-то купила у меня шифоньер, а зеркало не решилась. Наверно, оно ее чем-то страшило.
Была в комнате у меня следующая мебель: зеркало до потолка, табуретка вместо стола, железная кровать с постелью и железная печурка. Стол, оттоманку, стулья я сжег. Сжег все деревянное - кухонное.
Из произведений искусства была у меня репродукция с картины Серова "Дети" в темно-малиновой эмалевой рамке, купленная маминым рыжим летчиком, и "Галактика" Марата Дянкина, хотя я уже переместил ее в область стимуляторной магии, или оздоровительной чертовщины. Я был уверен, что "Галактика" каким-то образом помогает мне жить. Но помогали и "Дети". С первого дня появления у нас репродукции я отождествил серовских "Детей" с собой и моим братом Колей. Кудрявые волосы мальчиков меня не смущали, но взгляд исподлобья младшего был моим, и я смотрел на себя придирчиво, но с приязненным пониманием и какой-то внутренней нашей единой обидой и ощущением сиротства. Кудрявый брат Коля смотрел, как ему и положено, вдаль, за море, он видел Венецию - он очень хотел поплыть в Венецию на пароходе.
Золоченое трюмо показало мне меня во всей красе. С шелушащейся кожей в складках, как у ящерицы, с отсутствием ягодиц, икр, грудных мышц и щек. Потом, после Нового года, мои голени отекут, примут форму валенок, а тело примет форму скелета.
Польза от мытья была, конечно, только моральная. В больнице меня даже свитер снять не попросили, даже лоб не пощупали, а выписали бюллетень бледно-голубой, в котором было сказано, что по причине жестокой дистрофии я должен сидеть дома.
Так я оказался совсем один. Один на один с блокадой, с этой Медузой Горгоной, отогнать которую от глаз моих мне помогали лишь "Дети" Серова да "Галактика" Дянкина - мысли, возбуждаемые ими, как слабое электромагнитное поле. Как их было мало, мыслей, и как они были неспешны!
Обижаться я отучился в младших классах вследствие бесконечных драк по поводу вопросов чести, классовой борьбы и пионерской символики - это когда шпана-второгодник пачкал чем-нибудь нехорошим красный галстук нашему старосте - девочке. Сами мы без колебаний использовали свои галстуки при надобности вместо плавок. Боже мой, какие у мальчишек незначительные зады - можно сказать, просто нет их. Я дрался, когда кто-нибудь задевал достоинство моей мамы, моего брата... Я так привык бить первым, что на обиды времени не оставалось, отсюда и мысли мои были лишены амбициозной окраски.
Чаще всего я почему-то думал о финской войне. О нашей откровенно неудачной кампании против маленькой Финляндии. Во время финской войны много говорили о кукушках-снайперах, наводящих страх на целые полки, о неприступности линии Маннергейма, казавшейся мне высоченной крепостью. Но по геометрии выходило, что каждую линию можно обойти с флангов, если даже один ее фланг - лед Финского залива, а другой - лед Карельских болот. Мне все время приходил на ум страшный образ - громадный мужик, упершийся в столб лбом и бормочущий в страхе: "Замуровали..."
Мальчишками мы старательно выискивали свастику в иллюстрации к "Вещему Олегу", напечатанной на задней обложке наших тетрадок, - мы искали деяния врага. И находили. Мы находили бутылки шампанского в гербе нашей державы. Циничный враг таким образом издевался над нашей символикой.
Я сжигал в печурке тетрадки со своими тройками и "Вещим Олегом", а свастика наползала и наползала на Ленинград смертельным льдом.
Бумага горела плохо. Книжки горели плохо. Но все же я жег их. От них было много золы. Особенно неприятно было книги рвать - целиком они вообще не горели, обугливались, дымили и удушали огонь. Они боролись, как мне казалось, за свою жизнь. Лишь разорванные, без обложек, желательно смятые, они горели сносно - и то нужно было без конца помогать огню кочергой. Первыми ушли в печурку учебники, книжки поплоше, погрязнее. Потом Гарин, Шеллер-Михайлов, Чарская, Андрей Белый, "Бруски"...
Но вот я взял в руки "Дон Кихота". И он спас Чехова и Рабле.
Книги мы брали сразу в трех библиотеках, но и собственные книжки накапливались. Они даже, помню, приводили меня в неловкость, - и потому что их мало, и потому что они все же есть.
"Дон Кихота" на моих глазах не читал никто, кроме прилежных девочек-отличниц, которые даже в баню ходили с книгой. "Дон Кихота" обязательно давали в школьной библиотеке, а некоторые родители, преисполненные надежды разжечь в глазах своих детей проблески разума, покупали, с рисунками Доре, и тут же разочаровывались, как если бы в молитве попросили у Бога мешок крупчатки.
К нам "Дон Кихота" принес Коля. Он переехал от отца с тремя книжками: "Дон Кихотом", "Пантагрюэлем" и Чеховым. Я Чехова тогда считал юмористом. Рабле и Сервантеса тоже.
Коля читал без устали. Он мог читать и разговаривать со мной, мог читать и не слышать ни радио, ни нашего с матерью разговора. Иногда он пел. Но когда запевал я, он тут же поднимал глаза от книги и просил: "Будь добр, заткнись".
- Но ведь радио тебе не мешает.
- По радио поют правильно. Ты же врешь, как у классной доски.
Как мы прекрасно жили! Коля ел мягкую булку, намазанную мастикой, которую мама приготовила ему от чахотки: масло, мед, кагор, алоэ. Я ел булку, намазанную маслом и посыпанную сахарным песком. Мы жили хорошо Коля тоже работал и учился в вечерней школе. Тогда и появилась у нас падшая Изольда. Вернее, она появилась уже давно, совсем молоденькая, но потом она стала падшей, осквернив моего старшего брата.